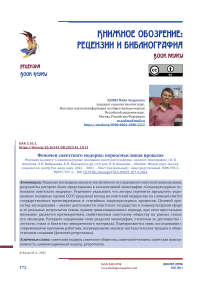Феномен советского модерна: переосмысливая прошлое
Автор: Ядова М.А.
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Книжное обозрение: рецензии и библиография
Статья в выпуске: 1 (41), 2025 года.
Бесплатный доступ
Рецензия посвящена анализу масштабного исследования советской цивилизации, результаты которого были представлены в коллективной монографии «Социокультурные основания советского модерна». Рецензент указывает, что авторы стремятся преодолеть упрощенные полярные оценки СССР, предлагая взгляд на советский модерн как на сложный синтез государственного проектирования и стихийных социокультурных процессов. Целевой ориентир исследования – анализ деятельности советского государства в социокультурной сфере и ее реальных результатов сквозь призму цивилизационного подхода, при этом пристальное внимание уделяется противоречиям, свойственным советскому обществу на разных этапах его эволюции. Раскрыто содержание семи разделов монографии, отмечены ее достоинства – легкость стиля и богатство эмпирического материала. Подчеркивается связь исследования с современными научными работами, посвященными анализу ностальгических трендов в общественном сознании (феномен ретротопии).
Советский модерн, советское общество, советский человек, советская повседневность, цивилизационный подход, ретротопия
Короткий адрес: https://sciup.org/170209426
IDR: 170209426 | DOI: 10.36343/SB.2025.41.1.013
Текст научной статьи Феномен советского модерна: переосмысливая прошлое
ЯДОВА Майя Андреевна кандидат социологических наук, Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук, Москва, Российская Федерация
Дискуссии о советском прошлом не утихают с момента распада СССР, а в последние годы в связи с изменившейся геополитической обстановкой они еще больше обострились. Вместе с тем, как справедливо замечает российский экономист и социолог Д. Я. Травин, «споры между теми, кто ностальгирует по советской действительности, и убежденными сторонниками реформ редко принимают аргументированный оборот» [4, с. 7]. В предлагаемой вниманию читателей коллективной монографии «Социокультурные основания советского модерна» представлены результаты масштабного исследования советского модерна, проект реализован под руководством доктора социологических наук, руководителя Центра изучения регионов России Института социологии Федерального научноисследовательского социологического центра РАН О. В. Аксеновой. По словам авторов монографии, в процессе работы над ней они стремились «понять, что пыталось в социокультурной сфере сформировать государство и что получилось в итоге, насколько реальными были советский человек и новое общество, и если они реальны, то какими они были» [3, с. 11]. По признанию исследователей, изучение социокультурных институтов и ценностей СССР оказалось делом сложным, несмотря на огромный пласт литературы, документальных свидетельств, произведений искусства, воспоминаний о том периоде. Дело не столько в физическом исчезновении предмета исследования, сколько в том, что мир советского за прошедшие годы превратился в «конструкт, обросший кажимостями, видимостями, мифами и симулякрами» [3, с. 12], за которыми потерялось содержание исследуемого феномена. Сегодня, по словам Д. Я. Травина, при обсуждении советской эпохи в российском обществе стало модным апеллировать к двум типам «истории для ленивых» - «для ленивых оптимистов и для ленивых пессимистов» [4, с. 226]. Для оптимистов существует «официозная» точка зрения, согласно которой в советское время практически все, за исключением некоторых деталей, было хорошо; для пессимистов же существует оппозиционная схема, предполагающая, что «советский простой человек», хотя и в новом поколенческом изводе,
«постоянно воспроизводит плохую советскую систему, несмотря на революции, перестройки и реформы» [4, с. 226]. Добросовестные исследователи, к каковым мы относим и авторов рецензируемой монографии, стараются уйти от этой сомнительной дихотомии, показав, что феномен советского общества был гораздо сложнее.
Книга имеет логично выстроенную структуру и состоит из семи разделов. Первый раздел «Парадигма социального действия и цивилизационный подход» обрисовывает теоретикометодологические рамки проведенного исследования. Второй раздел «Идеалы и смыслы советской цивилизации» посвящен ценностным и институциональным основаниям советской культуры, как государственно-нормативным, так и сложившимся вне официальной идеологии (на примере православной религиозной традиции). В третьем разделе «Парадоксы социокультурного освоения пространства» рассматриваются особенности взаимодействия советского человека с разного рода пространствами: культурным (театром, изобразительным искусством и пр.), территориальноприграничным (о повседневной жизни советского приграничья) и т. п. В четвертом разделе «Формирование нового человека: идеология и культура» описываются механизмы конструирования советских идеологических установок и передача их новым поколениям. В пятом разделе «Трансформация социокультурного феномена улицы и его роли в формировании ценностных ориентаций молодежи в СССР» представлено исследование феномена советской улицы и специфических особенности ее социализирующей функции. Шестой раздел «Великая Отечественная война как столкновение цивилизаций» акцентирует внимание читателя на анализе мобилизационных механизмов советского общества. Наконец, седьмой раздел «Саморефлексия в СССР. Противоречия свободной мысли» посвящен важнейшему для становления демократической общественной мысли периоду оттепели в СССР, сформировавшему поколение шестидесятников.
Авторы книги, сравнивая формационный и цивилизационный историософские подходы и признавая их достоинства, все-таки отдают предпочтение второму. Если последователи
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ: РЕЦЕНЗИИ И БИБЛИОГРАФИЯ
BOOK REVIEW
формационного подхода рассматривают историю человечества как единый процесс развития от примитивных форм к более совершенному обществу, то те, кто разделяет цивилизационный подход, понимает историю как дискретный процесс, подразумевающий пути развития «разных народов, объединяемых на основании некоторых культурных сходств в особые наднациональные общности - цивилизации» [3, с. 33], каждая из которых переживает свойственные ей социальные стадии развития - от подъема, расцвета до упадка. Авторы разделяют существующие в рамках цивилизационной историософии концепции на две группы: сторонники первой исходят из предположения о том, что каждая цивилизация развивается по своим уникальным законам, приверженцы второй полагают, что законы развития являются общими для всех цивилизаций [3, с. 58].
Авторы отмечают сложность и противоречивость советской цивилизации: с одной стороны, она была результатом целенаправленного вида проектирования, государственной стратегии развития общества, с другой - новое общество создавалось на уже заложенном фундаменте социального устройства Российской империи (стремление к «аннигиляции» прошлого - тоже определенный опыт). Поэтому без преувеличения можно сказать, что советский модерн складывался под влиянием множества факторов и разнонаправленных процессов. Авторы книги называют это «сложной целостностью», в рамках которой жесткость (а зачастую и жестокость) реформ сочетались с гуманистическими тенденциями в культуре, образовании, человеческих отношениях [3, с. 273]. Исследователи настаивают, что ключевым элементом системы советского модерна был актор, который обеспечивал ее мобилизационный потенциал в критических ситуациях, например в годы Великой Отечественной войны, но был и способен действовать вопреки системе. Рассуждая о парадоксальном нонконформизме шестидесятников, авторы отмечают, что «социализация внутри системы (в школе, в институте) и вне ее (в семье и на улице) воспитывала умение отстаивать свою позицию, вопреки распространенным представлениям о воспитании… конформиста» [3, с. 259]. Оказалось, что сама система выживания в советском обществе способствовала формированию не только типичного «советского простого человека»1, но и его полной противоположности - социально активной, критически мыслящей, независимой в убеждениях и поступках личности. Авторы, опираясь на результаты интервью с социологами-шестидесятниками, вынужденными бороться за право заниматься честной, неангажированной наукой, пишут, что в те годы «позиция борьбы неизбежно определяла результат научной работы, а смелость служила критерием оценки и фактически критерием истины» [3, с. 260].
Интересно, хотя и не бесспорно, утверждение авторов монографии о том, что западный модерн «минимизирует субъектность», создавая гибкую, саморегулируемую систему, результативную в устойчивой среде, но иногда трансформирующуюся в «бюрократическую диктатуру» [3, с. 277], тогда как советский социум нередко «прогибался» под действиями активных и упорных акторов (впрочем, часто происходило и обратное - система «ломала» людей). Например, успех советской армии в годы ВОВ авторы объясняют не полностью алгоритмизированной тактикой борьбы с противником, предполагавшей «инициативные действия самого бойца, подчас не имевшего связи с командирами» [3, с. 249], в то время как немецкие солдаты «действовать без приказов, без централизованного управления^ в массе своей были неспособны» [3, с. 250]. Также авторами отмечается особая «технологичность» поведения гражданского населения Германии во время войны: к примеру, в одном из занятых советской армией немецких городов Ландсберге все жители надели белые повязки, повинуясь приказу о капитуляции (для советского / российского человека, не всегда привыкшего следовать формальным правилам, такое поведение выглядит необычным) [3, с. 250].
В книге приводится много примеров творческого социального активизма советских людей в самых разных сферах жизнедеятельности, но, наш взгляд, не всегда делается акцент на ненормальности по сути жизни в вечной «борьбе с системой», в преодолении рожденных ею трудностей (товарный дефицит, иде-ологизированность, закрытость общества и пр.). Некоторые малопривлекательные стороны повседневной жизни советского человека не слишком вяжутся с утверждением авторов о миссии советской цивилизации, состоящей прежде всего в формировании единого и одновременно разнообразного социокультурного «пространства… деятельности всесторонне образованного и активного, творческого человека» [3, с. 275]. Как известно, «после» не значит «вследствие». Судя по всему, одним из факторов, подтолкнувших достаточно значительную часть советских граждан к поддержке сценария распада СССР, стало нараставшее среди населения внутреннее ощущение ненормальности прежнего существования.
Надо сказать, что для нынешнего постмодернистского общества характерны сильные ностальгические тенденции. Британский социолог З. Бауман предложил термин «ретро-топия» для обозначения глобальной эпидемии ностальгии [6]. Очевидно, что феномен ретротопии во многом вызван социальной турбулентностью и рисками современного мира. Ставшая сегодня популярной во многих странах бывшего социалистического лагеря посткоммунистическая ностальгия легко вписывается в отмеченные тренды. Так, социальные исследователи выделяют «остальгию» (ностальгию по временам ГДР), «югоносталь-гию» (ностальгию по социалистической Югославии), ностальгию по СССР и пр. [5] [7] [8]. Согласно социологическим опросам последних десятилетий, как правило, практически во всех возрастных группах россиян, может быть, за исключением самой младшей когорты (до 25 лет), фиксируется сожаление о распаде СССР. Причем молодежь нередко противопоставляет российское общество советскому не в пользу первого, отмечая уверенность в завтрашнем дне, консолидирующие ценности, культурные достижения и величие СССР в сравнении с непростыми современными реалиями, для которых характерны общественная атомизация, социально-экономические трудности, недостатки управленческих механизмов [1, с. 112].
Современным ученым еще предстоит более глубокое изучение социокультурного наследия советской цивилизации и его роли в нашей сегодняшней жизни. Эта работа является еще одним важным шагом в данном направлении. В качестве несомненного достоинства книги отметим легкий слог и обширный эмпирический материал, на котором строится проведенное исследование. Не вызывает сомнений, что рецензируемая монография может быть полезна не только специалистам, но и всем, кто интересуется реалиями советской жизни и наследием «советского проекта».
Maiya A. YADOVA
Cand. Sci. (Social Structure, Social Institutes and Processes), Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
The Phenomenon of Soviet Modernity: Rethinking Our Past
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ: РЕЦЕНЗИИ И БИБЛИОГРАФИЯ
BOOK REVIEW