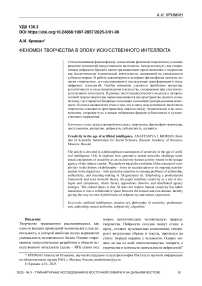Феномен творчества в эпоху искусственного интеллекта
Автор: Криман А.И.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 3 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена философскому осмыслению феномена творчества в условиях развития технологий искусственного интеллекта. Автор исследует, как генеративные нейросети бросают вызов традиционным представлениям о творчестве как исключительно человеческой деятельности, основанной на уникальности субъекта-творца. В работе анализируются историко-философские аспекты понятия «творчество», его секуляризация и последующая трансформация в эпоху цифровых технологий. Особое внимание уделяется проблемам авторства, аутентичности и смыслопорождения в искусстве, создаваемом при участии искусственного интеллекта. В рамках постгуманистического подхода и акторно-сетевой теории творчество переосмысливается как пространство диалога и симпоэзиса, где стираются бинарные оппозиции и возникает распределенная агентность. В статье выдвигается тезис о том, что в эпоху искусственного интеллекта творчество становится пространством диалога между человеческим и не-человеческим, открывая путь к новым гибридным формам субъектности и художественного выражения.
Искусственный интеллект, творчество, философия творчества, постгуманизм, нейросети, субъектность, алгоритм, авторство
Короткий адрес: https://sciup.org/170210993
IDR: 170210993 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24866/1997-2857/2025-3/91-99
Текст научной статьи Феномен творчества в эпоху искусственного интеллекта
Творчество традиционно рассматривалось как одно из высших проявлений человеческого, как деятельность, в которой наиболее полно выражается уникальность человеческого бытия. Однако современные технологические разработки в области искусственного интеллекта (далее – ИИ) ставят под вопрос исключительно человеческую природу творчества. Нейросети сегодня пишут стихи и прозу, создают музыкальные композиции, генерируют визуальные образы и тексты, претендуя на статус творцов наравне с человеком. Однако можем ли мы со всей ответственностью говорить о творчестве в контексте деятельности нейросетей?
Философское осмысление феномена творчества в эпоху ИИ требует пересмотра традиционных оппозиций «человек–машина», «субъект– объект» «природа–культура», лежащих в основе западноевропейской метафизики. Как отмечает Ф. Феррандо, «постгуманистическое мировоззрение характеризуется постдуализмом, постгуманизмом, постантропоцентризмом» [11, с. 31], что создает предпосылки для нового понимания творчества как феномена, выходящего за рамки исключительно человеческой деятельности. «“Смерть человека”, объявленная Фуко, формализует эпистемологический и моральный кризис, который выходит за рамки бинарных оппозиций и затрагивает различные полюса политического спектра» [21, p. 23]. Таким образом, человеческое в тандеме с не-человеческим – как в понимании постгуманизма, так и в понимании трансгуманизма демонстрирует новые возможности в творчестве, выходящие за рамки привычных представлений.
Актуальность данного исследования обусловлена не только стремительным развитием технологий ИИ, но и глубинными трансформациями в понимании человеческой субъектности, происходящими в современной философии. В современной философской дискуссии идея автономного субъекта, лежащая в основе новоевропейской культуры, подвергается критическому переосмыслению. В этом контексте анализ творчества машин становится ключом к пониманию трансформаций человеческой субъективности в дигитальную эпоху.
Цель данной статьи – философское осмысление феномена творчества в условиях развития технологий ИИ, выявление новых аспектов субъектности, возникающих в пространстве взаимодействия человека и машины.
Историко-философские аспекты понимания творчества
Понятие «творчество» имеет глубокие этимологические корни, связанные с идеей творения и Творца. В русском языке слово «творчество» происходит от глагола «творить», который исторически имел сакральное значение и относился прежде всего к божественному акту создания мира. Как отмечает В.В. Виноградов, «слово творчество не включено даже в словарь 1847 г. В предшествующих лексиконах его и подавно нет» [5, с. 312]. В словаре 1847 г. отмечены лишь слова «творец» (со значениями: 1) Бог, создатель мира... 2) церк. Производитель, исполнитель... 3) Сочинитель), «творить» (делать, производить), «творческий» (принадлежащий, свойственный творцу). Примечательно, что в широкий обиход понятие «творчество»
входит только в конце XIX – начале XX вв., что совпадает с процессами секуляризации и освобождения общества от религиозного влияния. М. Горький в «Беседах о ремесле» писал: «Прежде всего очень советую начинающим поэтам и прозаикам выкинуть из своего лексикона аристократическое, церковное словечко – “творчество” и заменить его более простым и точным: работа» [7, с. 324]. Эта рекомендация отражает процесс десакрализации понятия творчества, перевод его из религиозной сферы в область человеческой деятельности.
«Язык – это дом бытия» [12, с. 192], и трансформации, происходящие в понимании творчества, непосредственно отражаются в языке. Переход от сакрального понимания творчества как божественного акта к его секуляризованной трактовке как человеческой деятельности можно рассматривать в контексте общих процессов модернизации и становления человека как автономного субъекта.
В христианской традиции творчество рассматривается в контексте божественного творения мира. В Книге Бытия читаем: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» [3, Быт. 1:26–27]. В этом отрывке содержатся три ключевых элемента, которые подвергаются деконструкции в современной философии и антропологии: 1) иерархическое наделение сущностью от Бога к человеку; 2) бинарное разделение на мужчин и женщин; 3) наделение человека правом владычествовать над животными, что поддерживает антропоцентрическую иерархию. Относительно сегодняшней действительности творчество освобождается от исконно религиозной коннотации, однако вопрос о его са-кральности остается открытым.
Философ Н.А. Бердяев разрабатывает оригинальную концепцию творчества, преодолевающую разрыв между божественным и человеческим. По Бердяеву, «творческий акт всегда есть освобождение и преодоление. В нем есть переживание силы... Творчество по существу есть выход, исход, победа» [2, с. 8–9]. Для Бердяева творчество является продолжением божественного акта творения: «В творчестве сам человек раскрывает в себе образ и подобие Божье, обнаруживает вложенную в него божественную мощь» [2, с. 98]. Таким образом, в творчестве человек приближается к божественному, преодолевает свою тварную природу.
Однако современная постсекулярная философия подвергает критике данную модель, указывая на ее антропоцентрический характер. Как отмечает Ж.-М. Шеффер, «главным онтологическим основанием возникновения тезиса [о человеческой исключительности] является христианство. Однако своей критической точки он достигает в эпоху Просвещения» [17, с. 34]. По христианскому учению, человек далеко отстоит от своего божественного образца из-за первородного греха. В эпоху Возрождения и Просвещения происходит радикальная трансформация: «…Человек западной цивилизации начинает присваивать себе божественный образец, отождествлять себя с ним: парадоксальным жестом он делает трансцендентность имманентной» [17, с. 36]. Человек идет дальше и уже сам создает условных големов, которые претендуют на творчество.
Искусственный интеллект: от алгоритма к творчеству
История использования компьютеров для творческой деятельности насчитывает уже несколько десятилетий. Первые эксперименты в этой области относятся к 1950-м гг., когда были созданы компьютерные программы, способные генерировать музыку на основе заданных правил. Однако результаты были довольно посредственными. Значительный прогресс в области компьютерного творчества произошел в конце XX – начале XXI вв. с развитием нейронных сетей и технологий машинного обучения. С появлением глубоких нейронных сетей и методов обучения с подкреплением ИИ вышел на принципиально новый уровень, позволяющий моделировать сложные когнитивные процессы, в т.ч. связанные с творческой деятельностью.
Современные нейросети способны генерировать изображения, музыку, тексты, обладающие высокой степенью реалистичности и художественной выразительности. Например, система DALL-E компании OpenAI создает изображения на основе текстовых описаний, а GPT-4 пишет стихи и прозу, стилизованные под различных авторов. Некоторые тексты, созданные современными языковыми моделями, практически неотличимы от текстов, написанных людьми. Творчество нейросетей постепенно институционализируется. В 2016 г. впервые прошел конкурс художественных произведений, созданных роботами. В 2018 г. на аукционе Christie’s картина «Портрет Эдмонда Белами», созданная ИИ, была продана за 432 500 долл. Это событие стало своеобразной точкой перехода ИИ-искусства из экспериментальной области в признанную часть арт-рынка. Но возможно ли считать продукт дея-тельности нейросетей чем-то действительно новым или достаточно определить его в сферу искусства или прикладных технологий, оставив претензию на творчество исключительно за человеком?
Интересную позицию в этом вопросе занимает Маргарет Боден, различающая «исторический» и «психологический» типы творчества. Психологическое творчество (P-creativity) – это создание идеи, новой для конкретного индивида, независимо от того, была ли эта идея создана кем-то ранее. Историческое творчество (H-creativity) – создание идеи, которая является новой в историческом масштабе [20, p. 32]. По мнению М. Боден, современные системы ИИ, безусловно, способны к P-creativity, но их способность к H-creativity остается под вопросом. Существенное ограничение творческих возможностей ИИ связано с тем, что нейросети обучаются на уже существующих произведениях искусства и, следовательно, могут лишь комбинировать и трансформировать известные образцы, но не создавать принципиально новое. Как отмечает С. Пинкер, «человеческий мозг – не просто вычислительное устройство. Его когнитивные способности, включая творчество, основаны на сложном взаимодействии эмоций, социального опыта и культурных ценностей» [10, с. 203].
Однако исследования показывают, что человеческое творчество также во многом опирается на уже существующие идеи. Обращаясь к истории, мы можем обнаружить, что творчество всегда было коллективным процессом, включающим заимствование, комбинирование и трансформацию уже известных образцов. В этой перспективе деятельность ИИ можно рассматривать как продолжение многовековой традиции творческого диалога и трансформации культурных форм.
Искусственный интеллект в художественной практике
Практическое применение ИИ в художественном творчестве демонстрирует многообразие подходов и результатов, которые требуют философского осмысления. Рассмотрим несколько показательных примеров. Проект «Следующий Рембрандт» (The next Rembrandt) представляет собой портрет, созданный ИИ на основе анализа всех известных работ Рембрандта. Над созданием проекта работала команда специалистов из Microsoft, Делфтского технического университета, Дома-музея Рембрандта в Амстердаме и Королевской галереи Маурицхёйс в Гааге. Нейросеть изучила 346 картин художника, проанализировала геометрию лиц, особенности композиции, цветовую палитру и технику мазка [30]. Результатом стало произведение, которое визуально неотличимо от подлинных работ мастера. Этот проект поднимает фундаментальные вопросы о природе творчества и авторства. С одной стороны, перед нами техническое достижение – алгоритм, способный имитировать стиль великого художника. С другой стороны, это не просто копия существующей картины, а новое произведение, синтезирующее характерные черты творчества Рембрандта. Проект ставит под вопрос романтическое представление о художнике как о гении, наделенном уникальным видением мира. Если стиль можно алгоритмизировать, то в чем заключается неповторимость творческого акта?
Другой показательный пример – картина «Портрет Эдмонда Белами», созданная парижской группой Obvious Art с использованием Generative Adversarial Networks (GAN) [22]. Технология GAN представляет собой систему из двух нейронных сетей – генератора и дискриминатора. Генератор создает новое изображение на основе набора, затем дискриминатор пытается определить разницу между изображением, созданным человеком, и изображением, созданным генератором. Цель состоит в том, чтобы обмануть дискриминатор. Примечательно, что подпись на картине – это часть математической формулы, использованной при создании изображения.
В музыкальной сфере интересный эксперимент был проведен композитором Дэвидом Тьюдором, использующим алгоритмы, которые из механических звуков создают музыку, напоминающую природные звуки. Эта работа иллюстрирует сложную диалектику естественного и искусственного в творчестве [31]. Проект «The Neural Network Synthesizer: for Neural Synthesis and Neural Network Plus» демонстрирует постгуманистическую триаду в действии, где человеческое, технологическое и природное сливаются в единой симфонии. И хотя он возник задолго до нейросетей, способных генерировать имитации в т.ч. и природных звуков, нас интересует момент включения технологического в творческий процесс.
Особый интерес представляет проект компании Яндекс, в рамках которого нейросети обучались создавать музыкальные альбомы, стилизованные под популярные группы, и писать стихи в стиле Егора Летова. Этот проект демонстрирует, что современные алгоритмы способны улавливать не только формальные характеристики стиля, но и его эмоциональную, смысловую составляющую [16].
Все эти примеры свидетельствуют о том, что ИИ становится значимым актором в пространстве художественного творчества, что требует философского переосмысления традиционных категорий авторства, оригинальности и самого творческого акта.
Авторство и аутентичность
В традиционной эстетике и теории искусства автор рассматривался как единственный субъект творческого акта, источник уникального художественного видения. Как отмечает Р. Барт, «автор до сих пор царит в учебниках истории литературы, в биографиях писателей, в журнальных интервью и в сознании самих литераторов» [1, с. 384]. Однако уже в постструктурализме была провозглашена «смерть автора» – идея о том, что текст создается не столько индивидуальным сознанием, сколько языком, культурными кодами, интертекстуальными связями. Развитие технологий ИИ придает новое измерение проблеме авторства. Кто является автором произведения, созданного нейросетью: разработчик алгоритма, пользователь, задающий параметры, сама нейросеть или все они вместе? Творчество с использованием ИИ порождает распределенную агентность, в которой человеческие и не-человеческие акторы соучаствуют в создании произведения.
Интересный подход к этой проблеме предлагает Б. Латур в рамках акторно-сетевой теории, рассматривающей социальное как сеть отношений между человеческими и не-человеческими актантами. По Латуру, «агентность не является исключительной привилегией человеческих существ, но распределена между различными типами акторов – людьми, технологиями, природными объектами» [26, p. 63]. В этой перспективе авторство произведения, созданного с участием ИИ, можно рассматривать как результат сложного взаимодействия различных агентов в социо-технической сети, которая формирует многомерные комплексные отношения между актантами человеческой и не-человеческой природы [8]. Однако встает вопрос об исключительности акта творчества, его неповторимости, а значит и ценности.
Вальтер Беньямин в своей знаменитой работе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1936) писал о том, как технологии репродуцирования лишают произведение искусства его «ауры» – уникальности его существования в пространстве и времени [19]. Современные технологии ИИ создают новую ситуацию, которую можно назвать «эпохой технической воспроизводимости 2.0», где под вопросом оказывается не только аутентичность копии, но и оригинальность самого оригинала. Когда ИИ создает картину в стиле Ван Гога, мы имеем дело не с копией конкретного произведения, а с симуляцией самого творческого акта. Это не воспроизведение, а производство, претендующее на оригинальность. В этом контексте традиционное противопоставление оригинала и копии теряет смысл, уступая место более сложной диалектике подлинного и симулятивного.
Интересно, что в некоторых случаях произведения, созданные ИИ, могут восприниматься как более «аутентичные», чем работы человека-имитатора. Например, музыкальная композиция, созданная нейросетью на основе анализа произведений Баха, может быть стилистически ближе к оригиналу, чем пьеса современного композитора, сознательно подражающего барочному стилю. Парадокс заключается в том, что алгоритмическая имитация может быть «честнее» человеческой, поскольку она лишена претензии на уникальность и самовыражение.
Смыслопорождение и понимание
Ключевым вопросом в дискуссии о творческих возможностях ИИ является вопрос о способности машины к смыслопорождению и пониманию. Как отмечает Дж. Сёрл в своем знаменитом мысленном эксперименте «Китайская комната», компьютер может успешно манипулировать символами в соответствии с формальными правилами, но не понимает значения этих символов [28]. Применительно к творчеству это означает, что ИИ может генерировать тексты или изображения, формально соответствующие определенным правилам и образцам, но не понимает их смысла и значения. Современные нейросети, такие как GPT-4 или DALL-E, демонстрируют впечатляющие результаты в генерации текстов и изображений, но их деятельность лишена интенциональности и самосознания. ИИ может имитировать результаты творческого процесса, но не сам творческий процесс, включающий в себя интенцию, рефлексию, эмоциональное переживание.
Однако некоторые исследователи оспаривают это утверждение, указывая на то, что человеческое творчество также может быть описано в терминах вероятностных моделей и комбинаторики. Д. Хофштадтер, автор знаменитой книги «Гёдель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда», предлагает рассматривать творчество как «странную петлю» – са-мореферентную структуру, в которой высшие уровни системы могут взаимодействовать с низшими [15]. По мнению Хофштадтера, нельзя исключать возможность возникновения подобных «странных петель» в достаточно сложных искусственных нейронных сетях.
Перспективы творчества в новой онтологии
Интересно, что в трансгуманистическом дискурсе происходит не столько наделение антропоморфным чертами технологического, сколько своеобразное «обожествление» человека и «очеловечивание» машины. Человек, подобно богу, создает новые формы жизни и сознания, а машина наделяется чертами, традиционно ассоциируемыми с человеческой субъективностью. В трансгуманизме мы наблюдаем перенос атрибутов божественного творения на человека, который теперь сам создает бестиарий существ и творений. Однако критики трансгуманизма указывают на опасность такого подхода. Ф. Фукуяма называет трансгуманизм «самой опасной идеей в мире», поскольку он ставит под угрозу базовые ценности гуманизма и может привести к новым формам неравенства и эксплуатации [23]. Ю. Хабермас выражает обеспокоенность тем, что генетические модификации и киборгизация могут подорвать автономию личности и свободу самоопределения – ключевые условия творческой деятельности [24].
В отличие от трансгуманизма, постгуманизм не стремится к технологическому усовершенствованию человека, но предлагает радикальное переосмысление самого понятия человеческого. Как пишет Р. Брайдотти, «постгуманизм отказывается от антропоцентризма и иерархических бинарных оппозиций, предлагая вместо этого реляционную онтологию, в которой человеческое существует в сложной сети отношений с нечеловеческим» [4, с. 65]. В постгуманистической перспективе творчество не является исключительной привилегией человека, но распределено между различными агентами – человеческими и не-человеческими. Постчеловеческое сознание характеризуется распределенной когни-цией, в которой человеческий разум сосуществует и взаимодействует с интеллектуальными машинами.
Интересный пример постгуманистического подхода к творчеству демонстрирует художник Эдуардо Кац, создавший «трансгенное искусство» – произведения, включающие в себя живые организмы, модифицированные с помощью генной инженерии. Его знаменитый проект «GFP Bunny» (2000) представляет собой зеленого флуоресцентного кролика, созданного путем внедрения гена медузы в ДНК зайца [25]. Это произведение размывает границы между искусством, наукой и этикой, ставя вопрос о том, кто является автором – художник, генетик или сама природа.
В литературе и кинематографе также появляются произведения, исследующие постгуманистические формы творчества. Например, роман Ричарда Пауэрса «Овергейт» (2019) рассказывает историю о деревьях, которые общаются друг с другом и влияют на жизнь людей, демонстрируя, что агентность и творческое начало могут быть присущи нечеловеческим формам жизни [9]. Таким образом, постгуманистическое искусство воспроизводит триаду человече-ское/технологическое/животное, а трансгуманизм стоит на классических бинарных оппозициях челове-ческое/не-человеческое, зачастую заменяя божественное сакрализацией технологии.
Творчество как диалог человеческого и не-человеческого
В контексте современных философских и технологических трансформаций творчество можно переосмыслить как пространство диалога между человеческим и не-человеческим. Этот подход созвучен концепции «симпоэзиса» (совместного создания), предложенной Донной Ха-рауэй: «Симпоэзис – это создание-вместе, когда ни один вид, включая наш собственный, не действует в одиночку» [14]. В этой перспективе ИИ можно рассматривать не как замену человеческому творчеству, а как партнера в творческом процессе, открывающего новые возможности для художественного выражения. Сотрудничество человека и ИИ в сфере искусства создает уникальный гибридный тип творчества, недоступный ни человеку, ни машине по отдельности.
Примером такого симпоэтического творчества может служить проект «AI Duet» от Google, где алгоритм машинного обучения взаимодействует с пианистом, создавая музыкальный диалог. Человек играет музыкальную фразу, а ИИ отвечает, основываясь на паттернах, выявленных в ходе обучения на тысячах музыкальных композиций [27]. Результат такого взаимодействия – импровизационное произведение, в котором сложно разделить человеческий и машинный вклад.
Другой показательный пример – сотрудничество К. Алладо-МакДауэлл и языковой модели GPT-3 при создании романа «Фармако-ИИ» (2020). Писательница предлагала начальные фрагменты текста, а нейросеть продолжала повествование, создавая неожиданные сюжетные повороты и образы. Как отмечает сама К. Алладо-МакДауэлл, «это был опыт соавторства, изменивший мое понимание творческого процесса. ИИ действовал не как инструмент, а скорее как младший партнер с собственным творческим голосом» [18].
Для описания процесса, в котором человеческая субъективность формируется во взаимодействии с техническими объектами, философ Б. Стиглер вводит понятие «технической трансиндивидуации». По Стиглеру, «технические объекты – не просто внешние инструменты, но конститутивные элементы человеческого опыта» [29, p. 178]. В этой перспективе ИИ можно рассматривать как технологию, участвующую в формировании новых форм творческой субъективности. Интересно, что в некоторых случаях взаимодействие с ИИ позволяет художникам преодолеть творческие блоки и открыть новые художественные возможности. Художники, работающие с системами ИИ, отмечают, что диалог с ИИ помогает им выйти за пределы привычных паттернов мышления и увидеть образы, которые они сами бы не создали. Это не замена человеческого творчества, а его расширение.
Этические аспекты творчества ИИ
Развитие творческих возможностей ИИ поднимает ряд сложных этических вопросов. Один из них касается культурного присвоения и эксплуатации. Когда нейросеть обучается на произведениях искусства, созданных людьми (часто без их явного согласия), а затем генерирует новые работы в том же стиле, возникает вопрос о справедливости такого заимствования. Обучение ИИ на произведениях искусства без согласия авторов можно рассматривать как форму эксплуатации творческого труда. Другая этическая проблема связана с возможностью использования ИИ для создания дезинформации и манипуляции общественным мнением. Технологии «глубокой подделки» (deepfake) позволяют создавать реалистичные видео и аудиозаписи, имитирующие речь и поведение реальных людей. Творческие возможности ИИ могут быть использованы для подрыва доверия к медиа и манипуляции массовым сознанием.
Существует также проблема культурного обеднения и стандартизации. Если ИИ будет все шире использоваться в творческих индустриях, это может привести к унификации культурных продуктов, основанных на статистически наиболее популярных паттернах. Алгоритмическое творчество, ориентированное на максимизацию популярности, может привести к культурной гомогенизации и исчезновению экспериментальных, авангардных форм искусства.
Новые горизонты человеческого творчества
Несмотря на впечатляющие достижения ИИ в сфере творчества, можно предположить, что человеческое творчество не исчезнет, но трансформируется, найдя новые формы выражения. Как отмечает Ю.Н. Харари, «автоматизация рутинных аспектов творческого процесса может освободить человека для более глубоких форм творческого самовыражения» [13, с. 376]. Один из возможных сценариев – смещение фокуса человеческого творчества с создания конечных продуктов на разработку творческих систем и алгоритмов. В будущем художник может быть не столько создателем конкретных произведений, сколько дизайнером творческих систем, задающим параметры и правила для алгоритмического генерирования искусства.
Другой сценарий – развитие форм творчества, наиболее тесно связанных с человеческим опытом, эмоциями, социальными отношениями. ИИ может превзойти человека в создании формально совершенных произведений, но человеческое творчество сохранит свою уникальность в выражении экзистенциального опыта, страданий, любви, поиска смысла.
В завершение обратимся к перспективе преодоления бинарной оппозиции человеческого и не-человеческого творчества. Как отмечает
Р. Брайдотти, «постчеловеческая субъективность предполагает новую форму отношений с не-человеческими агентами – не отношений исключения или господства, но взаимного становления» [4, с. 92]. В этой перспективе творчество можно рассматривать не как исключительно человеческую или машинную деятельность, но как процесс непрерывного становления, в котором участвуют различные агенты – люди, технологии, природные системы. Отношения разумного доверия предполагают признание ограничений и возможностей как человеческого, так и машинного интеллекта, и ориентацию на их взаимодополнительность.
Творчество в постчеловеческую эпоху может стать пространством преодоления онтологических границ, установленных западноевропейской метафизикой. Гегель в «Феноменологии духа» пишет: «Бессильная красота ненавидит рассудок, ибо от нее он требует того, к чему она неспособна. Но не та жизнь, которая страшится смерти и только бережет себя от разрушения, а та, которая претерпевает ее и в ней сохраняется, есть жизнь Духа. Он достигает своей истины, лишь обретая себя в абсолютном распаде» [6, с. 24]. Эти слова приобретают новое звучание в контексте «смерти» традиционных форм творчества и возникновения новых, гибридных форм на границе человеческого и машинного.
Заключение
Развитие технологий ИИ радикально трансформирует наше понимание творчества, ставя под вопрос традиционные представления об авторстве, оригинальности, субъективности. ИИ демонстрирует впечатляющие способности к созданию текстов, изображений, музыки, которые все сложнее отличить от произведений, созданных человеком. В данной статье мы рассмотрели феномен творчества в эпоху ИИ с позиций различных философских подходов, продемонстрировав, что современные дискуссии о творческих возможностях ИИ затрагивают фундаментальные философские вопросы о природе сознания, субъективности, смысла.
Анализ конкретных примеров использования ИИ в художественной практике позволил выявить как возможности, так и ограничения машинного творчества. С одной стороны, ИИ способен генерировать произведения, формально неотличимые от созданных человеком, с другой – его деятельность лишена интенциональности, самосознания, понимания смысла.
В контексте трансгуманистических и постгуманистических концепций творчество приобретает новое измерение – оно становится пространством диалога между человеческим и не-челове-ческим, пространством преодоления бинарных оппозиций «субъект–объект», «природа–культура», «человек–машина». Перспективы дальнейшего исследования данной проблематики связаны с анализом новых форм творческого взаимодействия человека и ИИ, а также с философским осмыслением культурных, этических, антропологических последствий развития ИИ-творчества.
В завершение можно высказать предположение, что в эпоху ИИ творчество не исчезнет, но будет претерпевать радикальную трансформацию, обретая новые формы и смыслы. Как пишет Н.А. Бердяев, «в творчестве снизу раскрывается божественное в человеке, от свободного почина самого человека, а не сверху» [2, с. 98]. Возможно, именно в творческом диалоге с ИИ человек сможет по-новому раскрыть свою сущность, преодолевая ограничения традиционного гуманизма и открывая путь к новым формам субъектности.