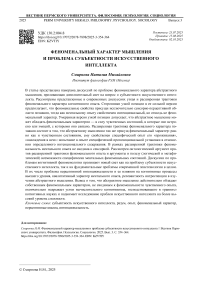Феноменальный характер мышления и проблема субъектности искусственного интеллекта
Автор: Смирнова Н.М.
Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik
Рубрика: Философия. Психология
Статья в выпуске: 3 (63), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье представлена панорама дискуссий по проблеме феноменального характера абстрактного мышления, проливающая дополнительный свет на вопрос о субъектности искусственного интеллекта. Рассмотрены представленные в современных дискуссиях узкая и расширенная трактовки феноменального характера когнитивного опыта. Сторонники узкой позиции в ее сильной версии предполагают, что феноменальные свойства присущи исключительно сенсорно-перцептивной области познания, тогда как ментальному опыту свойственен интенциональный, но отнюдь не феноменальный характер. Умеренная версия узкой позиции допускает, что абстрактное мышление может обладать феноменальным характером — в силу чувственных состояний, в которые оно встроено или эмоций, с которыми оно связано. Расширенная трактовка феноменального характера познания состоит в том, что абстрактному мышлению так же присущ феноменальный характер: равно как и чувственным состояниям, ему свойственен специфический опыт его «проживания», «нахождения в нем»: испытание в опыте специфической пропозициональной установки в отношении определенного интенционального содержания. В рамках расширенной трактовки феноменальность ментального опыта не сводима к сенсорной. Рассмотрен онтологический аргумент против расширенной трактовки феноменального опыта и аргументы в пользу (логической и метафизической) возможности специфически ментальных феноменальных состояний. Дискуссии по проблемам когнитивной феноменологии проливают новый свет как на проблему субъектности искусственного интеллекта, так и на фундаментальные проблемы современной эпистемологии в целом. В их числе проблема перцептивной интенциональности и ее влияния на когнитивные процессы высшего уровня, квалитативный характер ментального опыта, релевантность интроспекции в изучении абстрактного мышления. Вывод о том, что абстрактное мышление действительно обладает собственным феноменальным характером, не сводимым к феноменальности чувственного опыта, окончательно подрывает устои вычислительного когнитивизма, господствовавшего в «ранних» когнитивных науках и поднимает исследование проблем искусственного интеллекта на более высокий уровень сложности.
Субъектность искусственного интеллекта, разум, опыт, феноменальный характер, перцептивные квалиа, интенциональность
Короткий адрес: https://sciup.org/147252088
IDR: 147252088 | УДК: 130.2:004.8 | DOI: 10.17072/2078-7898/2025-3-354-364
Текст научной статьи Феноменальный характер мышления и проблема субъектности искусственного интеллекта
Accepted: 15.08.2025
Сравнительно недавно в России было объявлено о создании нового типа негаллюцинирующего искусственного интеллекта (ИИ) под редким — ассоциируемым с легендарным чудотворцем — именем «Никола». Он создан на основе отечественных программных разработок и запущен на платформе «Инвенторус» [Урманцева А., 2025].
Создание Николы отечественными разработчиками считается крупным прорывом в деле приобщения отечественных ученых к достиже- ниям мирового научного сообщества в условиях, когда крупнейшие зарубежные научные платформы — Scopus и Web of Science — приостановили доступ российских ученых и научных организаций к собственным материалам. Никола же обучен на огромном корпусе научных статей и патентов, вполне сопоставимом с ушедшими Scopus и Web of Science.
К концу июня 2025 г. Николу успели «обучить» на 500 млн научных публикаций, «прочитанных» им на 42 языках. Он оперирует множеством научных терминов и в состоянии просматривать и анализировать сотни публикаций в секунду. Интеллект Николы сформирован исключительно на высокорейтинговых научных публикациях, а его «мировоззрение» слагается из данных, почерпнутых из высоко профессиональных научных журналов с высоким impact-фактором.
Но Никола не только в скоростном режиме наращивает базу научных публикаций, позволяющую отечественным ученым вести полноценные исследования на мировом уровне, — он способен генерировать ИИ-рефераты и аналитические отчеты, схватывая, по уверению разработчиков, важнейшие смыслы научных статей на заданную тему. Поэтому и сами программисты, и те, кто успел оценить его возможности, склонны считать Николу виртуальным ученым, работа которого вполне сопоставима с деятельностью научного референта или даже научного сотрудника.
Но можно ли считать Николу и подобные ему системы искусственного интеллекта, обученные анализировать огромные базы научных данных (Big Data), собственно виртуальным исследователем, подобным члену научного сообщества (в том числе, с вытекающими из этого этическими требованиями)? Или же виртуальный ученый — изощренная метафора тех, кто попросту зачарован могуществом нового ИИ-инструмента? Вправе ли мы приписывать искусственному интеллекту, на множестве образцов обученному реферировать содержание научных статей и даже формулировать собственные выводы, статус субъекта научной деятельности?
Оговоримся, что вопрос о субъектности искусственного интеллекта имеет множество смысловых измерений, и его профессиональное обсуждение требует мобилизации мощных интеллектуальных ресурсов в рамках междисциплинарного исследования. Но в нем присутствует и собственно философское измерение, не сводимое к исключительно этической составляющей. Философско-эпистемологический компонент проблемы субъектности искусственного интеллекта состоит в вопрошании феноменального характера высших форм когнитивной деятельности — той, что составляет когнитивную основу любой научной аналитики. Именно об этой проблеме далее и пойдет речь.
Контроверзы субъектно-квалитативного характера ментальной деятельности
Традиционно проблема феноменального характера сознания рассматривалась исключительно в отношении чувственного познания: как это — быть в том или ином состоянии, испытывать те или иные qualia? Как передать запах свежесваренного кофе, тактильные ощущения мягкости шелка или чарующую картину вечернего заката в горах человеку, подобных ощущений не испытывавшему? Невыразимость квалитативных характеристик чувственного опыта в общезначимых терминах составляет так называемую «трудную проблему сознания» [Chalmers D.J., 1996].
В рамках аналитической философии сознания термин «феноменальное», как правило, употребляется для обозначения сенсорных качеств: зрения, слуха, обоняния и т.д. в значении: каково это — иметь ощущения определенного рода: «What is it like of experiencing…». Ее классическая формулировка представлена Э. Нагелем в известной статье «What is it like to be a bat?» [Nagel Th., 1974]. Ментальные же состояния (мысли, догадки, сомнения и т.п.), в отличие от сенсорных, наделялись исключительно интенциональными, но не феноменальными свойствами.
Феноменология 1 же склонна распространять характеристики феноменальности на все виды когнитивного опыта. Абстрактное мышление — тоже особого рода опыт, заданный телесной конституцией человеческого организма и его культурно-историческим габитусом — письменами истории, встроенными в телесность. Любые акты мышления (рассуждения, сравнения, сомнения, построение гипотез и т.п.) суть особого рода ментальный опыт, априорные формы которого подлежат изучению в его различных смысловых составах. В самом деле, каково это — понимать смысл сказанного (а не просто слышать звуковой поток) или схватывать смысл математического доказательства (а не просто созерцать хитросплетение математической символики)?
На рубеже XX–XXI вв. — благодаря завязавшемуся диалогу аналитической философии сознания с феноменологической традицией, заложенной Э. Гуссерлем, — проблема феноменального характера познания (как это — проживать те или иные состоянии в процессе познания, испытывать тот или иной когнитивный опыт?) обрела широкое обсуждение в рамках философской эпистемологии. Смысловым центром дискуссии стало обсуждение возможности расширения содержания понятия «когнитивный опыт» с исключительно перцептивного знания на высшие уровни познавательной деятельности. Как это — мыслить так, а не иначе, причислять себя к сторонникам той, а не иной точки зрения? Каков экзистенцианальный модус проживаются подобных ментальных различий? Наконец, обладает ли абстрактное мышление собственным феноменальным характером — сравнимым с тем, что традиционно приписывают чувственности?
И если на всем протяжении ХХ в. отношения между двумя важнейшими ветвями философского постижения человеческого разума колебались от пассивного замалчивания до активного неприятия, то к концу ХХ в. представители аналитической философии и феноменологии вступили в оживленный диалог на общем предметном поле исследования сознания с учетом данных когнитивных наук.
Представители «раннего» когнитивизма явно тяготели к аналитической философии. В его парадигме мышление не просто ассоциировалось, но фактически отождествлялось с вычислительной деятельностью, в принципе воспроизводимой на любом (неорганическом) носите-ле 2 . Уподобление мышления вычислительной деятельности кристаллизовалось в направление «вычислительного когнитивизма», наследующего классический рационализм Г. Лейбница, согласно которому мышление есть скрытая вычислительная деятельность сознания, которое не знает, что оно вычисляет.
Дебаты по поводу феноменального характера абстрактного мышления, имеющего непосред- ственный выход на проблему искусственного интеллекта, к концу 80-х гг. ХХ в. вылились в оживленную дискуссию, продолжающуюся и поныне. Далее будет представлено основное содержание дискуссий по проблемам феноменального характера абстрактного мышления, поднимающее на новый уровень сложности обсуждение проблем искусственного интеллекта.
Дискуссии по феноменальному характеру концептуального мышления («каково это — пережить ту или иную мысль?») обнажили и целый ряд более частных вопросов. Можно ли описать переживание когнитивных эпизодов в знакомых нам типах феноменальных переживаний (сенсорных, перцептивных, эмоциональных), или же мышление имеет собственную, особую форму феноменальности? Сводима ли эта феноменальность к феноменальному характеру сопутствующих эмоциональных состояний? Что характерно для собственного феноменального профиля концептуального мышления, если он существует? Сводится ли он лишь к переживаниям внимательности, когнитивного контроля, рефлексивной осознанности или вовлекает и другие типы переживаний? Как видим, поставленные вопросы затрагивают фундаментальные проблемы современной эпистемологии, ответы на которые способны пролить новый свет на понимание перцептивной интенциональности и ее влияния на когнитивные процессы высшего уровня, квалитативного характера ментального опыта, релевантности интроспекции в изучении абстрактного мышления, наконец, на когнитивный статус феноменологической дескрипции.
До недавнего времени на теоретическом ландшафте философии сознания преобладала позиция, согласно которой одни лишь сенсорные состояния обладают феноменальным измерением, тогда как когнитивная активность высокого уровня либо полностью лишена феноменального характера, либо наследует его из сопутствующих сенсорных состояний. В парадигме аналитической философии сознания подобное утверждение полагалось столь само собой разумеющимся, что сам факт его обсуждения ввергал в недоумение 3 .
Парадигмальными образцами феноменальных состояний полагались перцептивные состояния во всех возможных модальностях, и в первую очередь — чувственные («сырые») ощущения. Сенсорным состояниям в широком смысле слова (образы, настроения, чувства, связанные с эмоциями) приписывали отличительный феноменальный характер: «как это — быть в подобном состоянии» или «как это — испытывать схожий опыт». О телесных ощущениях и перцептивном опыте можно сказать: «быть в них». Так, видение красной розы проявляется специфическим «чувством», манифестирующим феноменальный характер этого «опыта видения», трудно передаваемого в общезначимых терминах. Но красная роза может быть не только объектом чувственного восприятия. Мы можем подумать о ней, вспомнить ее, порассуждать о топологической сложности формы цветка, помечтать о ней, наконец. Все это — ментальные феномены, в рамках аналитической философии сознания полагавшиеся качественно отличными от сенсорных.
В отличие от представителей аналитической философии, феноменологи наделяли феноменальными качествами многообразные виды опыта, начиная от «сырых» ощущений и заканчивая высшими формами когнитивной деятельности: и для самого Э. Гуссерля, и его последователей феноменальность сознания4 не подлежала вопрошанию. Феноменология практикует изучение от 1-го лица гораздо более широкого спектра сознательного опыта. Это опыты видения, слушания, воображения, думания, чувствования, стремления, сомнения, актов воли и желания с точки зрения их проживания. Главная особенность ментального опыта состоит в его интенциональном характере: быть сознанием чего-то или о чем-то. Сам Гуссерль придерживался точки зрения, согласно которой концептуальному мышлению столь же присущ феноменальный характер, что и восприятиям, и представлениям. Ибо опыт — это любой элемент потока сознания, задающий собственный modus vivendi: каково это — быть тем или иным существом.
В рамках феноменологической традиции, к феноменальной области принадлежат столь многообразные виды когнитивного опыта, как суждение, мышление, верование/неверие, подозрение, догадка, предположение, память, ожидание, спекулятивное мышление, полагание, утверждение типа «S есть P». Современные феноменологи причисляют к ним такие виды когнитивной деятельности, как созидание гипотез, рассмотрение их истинности, воспоминания, выведение логического следования, решение проблем, рассуждение о том, что делать, схватывание смысла метафоры, осознание шутки, понимание предложения, артикуляция мысли в языке, обретение подозрения/догадки [Sacchi E., Voltolini A., 2016, p. 12–13]. Дебаты феноменологов и приверженцев аналитической философии поставили под сомнение когнитивную уникальность феноменальных перцепций типа «What is it like to be a bat?» [Nagel Th., 1974], сосредоточенных на ощущениях и восприятиях, иногда распространяемых на телесные переживания и эмоции, но никак не на мышление.
Нетрудно заметить, что в основании дискуссии о феноменальном характере мышления лежит представление о присущих человеку двух (якобы) метафизически различных областях разума (mind): перцептивной и ментальной. Перцептивная объемлет ощущения и чувства, обладающие феноменальными качествами. Область же пропозициональных установок и ментальных состояний наделена исключительно интенциональным содержанием. В рамках философско-аналитической (по преимуществу) версии феноменальность — черта, присущая исключительно первой области, тогда как интенциональность — второй 5 .
Подобная жесткая дихотомия двух областей разума не согласуется с энактивистской установкой телесно-ориентированной эпистемологии , преодолевшей ограниченность «раннего» вычислительного когнитивизма. Представление о том, что mind — это единая аутопоэтическая область телесно воплощенных феноменов сознания, так и осталось в «слепом пятне» участников дискуссии. Искусственная двойственность разума как конституированного двумя его разнородными областями оказала огромное (и, как представляется, не вполне позитивное) влияние на участников рассматриваемого диалога.
Когнитивные метаморфозы феноменальности
Как следует из предыдущего изложения, «яблоком раздора» дебатирующих сторон является принятие или отвержение гипотезы наличия феноменальных состояний высших форм когнитивной деятельности: существует ли (и если да, то какова она) специфическая когнитивная феноменология, описывающая феноменальный характер собственно ментальной когнитивной деятельности? В обширной литературе по теме феноменального характера когнитивного опыта представлен целый спектр различных названий противоборствующих сторон дискуссии 6 . Мы же предпочтем им сравнительно нейтральные термины: узкая и расширенная трактовки феноменального характера когнитивного опыта.
Узкая трактовка феноменального характера когнитивного опыта (ее отстаивают в основном представители аналитической философии сознания) представлена в дискуссиях в двух вариантах: сильном и умеренном. Сильная, разделяемая меньшинством, отрицает, что ментальные состояния могут быть феноменально сознательны. Согласно упомянутой сильной версии, феноменальность присуща исключительно сенсорной области познания, абстрактное же мышление не обладает какой-либо отличительной — несенсорной или необразной — феноменальностью. Адепты этой позиции убеждены в том, что «ментальные состояния являются образцами состояний, для которых не существует чего-либо похожего на них, им недостает феноменального характера» (перевод наш. — Н.С.) [Braddon-Mitchell D., Jackcon F., 2007, р. 129].
В свою очередь, умеренная позиция признает, что когнитивные состояния отчасти феноменально сознательны. Она допускает, что перцептивный опыт сохраняет отличительный феноменальный характер, невзирая на то, что ощущения, как правило, «информированы концептами» (видение упомянутой красной розы, узнаваемое начало знакомой мелодии, укус комара и т.п.). Перцептивный опыт сохраняет феноменальный характер, хотя и нагружен определенным концептуальным содержанием, которое все же «чувствуется» или проживается [Sacchi E., Voltolini A., 2016, р. 15]. Иными словами, сознательные мысли могут обладать феноменальным характером, но лишь в силу чувственных состояний, в которые встроены, или эмоциональных, с которыми они связаны.
Таким образом, «если и есть феноменальные или непосредственно испытываемые в опыте качества когнитивных состояний, то лишь благодаря тому, что они сопровождаемы ощущениями или образами, или чувствами, которым реально присущ феноменальный характер» (перевод наш. — Н.С. ) [Tye M., 1995, p. 4]. Умеренная позиция узкого подхода получила название редукционистской. Общей презумпцией сильной и умеренной версий узкой трактовки феноменального характера мышления является представление о том, что сенсорные особенности носят непроблематизируемый феноменальный характер, тогда как концептуальному мышлению он либо передается «по наследству» от чувственности, либо в нем и вовсе отказано.
Противоположная — расширенная — позиция (к которой тяготеют сторонники феноменологической традиции, но не только) состоит в том, что сознание обладает феноменальной целостностью, и мышлению столь же присущ феноменальный характер, что и чувственному познанию. Но эта феноменальность sui generis: она своеобразна и не сводима к сенсорной. Размышляя о том, что 17 — простое число, а красный свет закатного солнца вызван преломлением света, что Кант более прав, чем Юм и т.п., — даже и столь высокоуровневые когнитивные активности обладают феноменальным характером. Каково это — думать так, а не иначе, т.е. испытывать специфическую пропозици- ональную установку в отношении определенного интенционального содержания?
Более сильный вариант расширенной трактовки когнитивной феноменологии включает в себя требование независимости . В контексте данных дискуссий она означает признание (логической и метафизической) возможности чисто ментальных феноменальных состояний. Независимость предполагает, что ментальные когнитивные состояния имеют особый, уникальный феноменальный характер, несравнимый с какими бы то ни было чувственными феноменальными состояниями и не сводимый к ним: феноменальность мышления существует независимо от них и не порождается ими. Нетрудно видеть, что независимость — более сильное требование, чем несводимость, поскольку первое влечет за собой второе, но не наоборот [Chudnoff E., 2015, p. 17–18].
Изначально предполагалось, что тезис независимости может обрести надлежащее подтверждение на основе интроспекции (T. Horgan, U. Kriegel, M. Montague, D. Pitt, Ch. Siewert, G. Strawson и др.), ибо речь идет о феноменах сознания, к которым мы имеем непосредственный доступ от 1-го лица. Однако дебаты о когнитивной роли интроспекции в обнаружении феноменальных свойств мышления так и не привели к искомому согласию, хотя и подняли на новый уровень обсуждения проблему ее достоверности. Большинство участников дискуссии сошлись на том, что интроспекция не в состоянии свидетельствовать ни за, ни против феноменального характера мышления 7 , поскольку та или иная трактовка интроспекции уже занимает определенную позицию в решении этой проблемы.
В ходе оживленной полемики сторонники узкой и расширенной трактовок феноменального характера когнитивной деятельности выдвигают сильные аргументы в обоснование собственных позиций. Так, онтологический аргумент защитников узкой позиции призван опровергнуть существование когнитивной феноменологии на том основании, что мысли не обладают необходимым онтологическим профи- лем (процессуальным характером), чтобы быть частью потока сознания и носителями феноменальных качеств [Tye M., Wright B., 2011].
Онтологический аргумент апеллирует к метафизике составляющих потока сознания и их темпоральному профилю. В соответствии с ним, наблюдаемые ментальные состояния не могут быть феноменально сознательны, т.к. им недостает временнóй структуры, необходимой для того, чтобы сформировать/сконфигурировать что-либо в потоке сознания субъекта, ибо все конфигурации потока сознания должны быть темпорально структурированы, дабы разворачиваться во времени. Но мысли не имеют темпорального измерения: они приходит не отдельными словами, но одномоментно — их содержание схватывают «сразу», целиком. Следовательно, заключают критики расширенной трактовки, мысли не могут быть феноменально сознательны. Мы феноменально осведомлены о них, когда (и только тогда) воспринимаем их в их сенсорном сопровождении.
Налицо две линии ответа на онтологический аргумент со стороны приверженцев расширенной трактовки феноменального характера познания. Первый: некоторые ментальные состояния могут разворачиваться во времени. Мы мыслим себя обдумывающими проблему, решающими задачу или размышляющими над тем, что делать, и вовсе не очевидно, что эти события не имеют темпорального профиля.
Второй, более сильный тезис состоит в проблематизации самого утверждения, что поток сознания ограничен событиями и процессами. Не все элементы даже и перцептивного опыта являются процессуальными. Например, перцептивное распознавание. Хотя оно и может быть встроено в процессы темпоральной развертки, не ясно, разворачивается ли во времени сам «акт осознания»: мы узнаем лицо не по набору черт, а мелодию — не по набору нот, но видим/слышим «все сразу». И каковы бы ни были достоинства и недостатки этих ответов, они поднимают серьезные вопросы, касающиеся временной структуры восприятия и онтологии сознания.
Сторонники расширенной трактовки феноменального характера ментального опыта, в свою очередь, выдвигают собственные аргу- менты. Наибольшую известность среди них приобрел аргумент феноменального контраста. Он апеллирует к доступным интроспекции очевидным различиям в ментальных состояниях (в реальных случаях или мысленных экспериментах) путем сопоставления двух различных сценариев. В обоих из них сенсорные и перцептивные составляющие идентичны, тогда как ментальные — нет: предполагается, что это различие объяснимо лишь с точки зрения когнитивной феноменологии [Kriegel U., 2015]. Например, если некто, владеющий лишь одним языком, воспринимает речь на родном языке, т.е. с пониманием ее смысла, он обретает совсем иной ментальный опыт, нежели в том случае, если слушает речь на незнакомом ему языке, воспринимая ее лишь как звуковой поток («шум») [Strawson G., 1994, p. 6].
Сторонники узкой трактовки феноменального характера познания отрицают не сам факт контраста, но то, что он феноменален, полагая, что подобные различия вполне объяснимы с позиций сенсорной феноменологии (P. Carruthers, B. Veillet, J.J. Prinz, W.S. Robinson, M. Tye, B. Wright). С их точки зрения, контраст между восприятием на слух речи на языке, который понимаешь, и на том, который не понимаешь, может быть объяснен различиями в способе слуховой обработки звукового потока, т.е. в рамках сенсорной феноменологии. Однако и они вынуждены признать, что аргумент феноменального контраста свидетельствует о наличии перцептивной феноменальности высокого уровня. А поскольку неясно, как провести грань между мыслью и высокоуровневым восприятием, вопрос о том, является ли аргумент контрастности доказательством феноменального характера ментального опыта, остается открытым.
Эпистемический аргумент [Goldman A.I., 1993; Pitt D., 2004] апеллирует к известному «объяснительному разрыву» между феноменальными свойствами, с одной стороны, и нейронными (функциональными) характеристиками — с другой. Подобный эпистемический разрыв известен под названием «трудной проблемы сознания» [Chalmers D.J., 1996]: нет адекватного объяснения связи между работой мозга и феноменальными состояниями сознания, ибо никакое знание биохимических и/или функциональных характеристик мозга недостаточно для объяснения феноменальных свойств сознания. Можно знать все, что известно науке, о физио- логии зрительной системы, но не знать, каково это — видеть красный цвет. Сознание наделено неэлиминируемыми квалитативными свойствами, и его субъективный и феноменальный характер конститутивен для философии сознания.
Представители узкой трактовки феноменального характера когнитивного опыта отвергают подобный аргумент на том основании, что не усматривают здесь никакого объяснительного разрыва. В доказательство его отсутствия приводится аргумент частичных зомби — существ, у которых есть перцептивные характеристики, но нет ментальных. А поскольку такие существа мыслимы, то, как утверждается, это связано с самой природой сознательной мысли, а вовсе не с ее феноменальным характером.
В ответ на аргумент частичных зомби широкое распространение получил так называемый аргумент Зои [Kriegel U., 2015, p. 46]. Именем Зоя названо гипотетическое существо, в отличие от зомби, лишенное сенсорных и эмоциональных качеств, отчасти основанных на сенсорных. Тем не менее, Зоя ведет насыщенную когнитивную жизнь, всецело посвященную математике. Помимо алгоритмизированных действий, она осуществляет изощренные математические доказательства, и любое значимое достижение в этой области влечет за собой вполне ощутимые ментальные переживания («эврика!»). Предполагается, что этот ментальный сдвиг феноменален: каково это — ощущать себя сделавшим важное открытие? И, если по условиям мысленного эксперимента такие состояния не являются сенсорными, они свидетельствуют в пользу феноменального характера абстрактного мышления.
Другое измерение дебатов касается связи между феноменальностью и содержанием мыслей. Одни сторонники расширенной трактовки феноменальности отрицают, что содержание мысли прямо влияет на ее феноменальный характер, другие — что каждое различие в содержании мысли влечет за собою сдвиг ее феноменального профиля. Представлена и средняя позиция: только определенные насыщенные высоким смыслом содержания сказываются на феноменальном характере мысли 8 .
Наконец, непростой вопрос касается структуры когнитивной феноменальности. В сенсорной сфере мы можем выделить огромное разнообразие подтипов сенсорных модальностей: цвет, запах, форма, пространственное расположение и т.п. К тому же налицо очевидные различия не только между опытом в различных перцептивных вариациях, но и внутри каждой отдельной сенсорной области: запах сирени не спутать с запахом ландыша, и оба отличны от запаха мокрой травы. Является ли феноменальность мышления аналогично структурированной? Есть ли подобное многообразие в феноменальном характере мысли? И если да, то каковы главные измерения, в терминах которых оно может быть выражено? Сторонники расширенной трактовки феноменального характера когнитивного опыта склонны предполагать, что феноменальный характер мышления относительно независим от его концептуальной структуры, ибо объемлет опыт субъекта в его экзистенциальной целостности 9 .
Но перейдя от рассмотрения представленных в дискуссии отдельных аспектов феноменальности к более широкому взгляду на проблему , развитому в рамках телесно-ориентированной эпистемологии, мы обнаружим новые аргументы в пользу феноменального характера ментального опыта. Энактивный подход конституирует тематическое единство мышления, т.е. единство сенсорных, когнитивных и аффективных состояний, с ним ассоциированных, в актах познавательной деятельности встроенного в среду организма. Каждый сознательный тип опыта имеет свойственный ему феноменальный характер, и задача эпистемологии — проанализировать эти особенности во всем их «цветущем многообразии». Воплощенная телесность, переживаемая в повседневных проявлениях когнитивности, — предмет изучения современной телесноориентированной эпистемологии, наследующей глубоким прозрениям феноменологической традиции в изучения разума.
Заключение
В статье представлена панорама различных версий и подходов, объясняющих характер связи перцептивного знания и концептуального мыш- ления. Рассмотрение этой проблемы имеет непосредственное отношение к заявленному вопросу о субъектности искусственного интеллекта. Полагаем, что актуализация вопроса о феноменальном характере мышления имеет мощные предпосылки философско-методологического характера. Они состоят в осознании когнитивных пределов вычислительного когнитивизма в философии искусственного интеллекта10.
И если человеческое мышление обладает особым феноменальным характером, недоступным машине способностью пережи- вать/проживать/изживать собственные ментальные состояния, то признание феноменальности мышления окончательно подрывает притязания вычислительного когнитивизма, господствовавшего в «ранних» когнитивных науках, и поднимает исследование проблем искусственного интеллекта на новый, еще более высокий уровень сложности.
Выражение признательности
В статье представлены результаты исследований по мега-теме «Познавательная деятельность человека в перспективе эпистемологии, логики и когнитивных исследований», выполненных в рамках гос. задания (2025–2027 гг.) Института философии РАН.
Acknowledgements
This article presents the results of studies on the mega topic «Human cognitive activity from the perspective of epistemology, logic, and cognitive research» carried out as part of the state assignment (2025–2027) undertaken by the Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences.