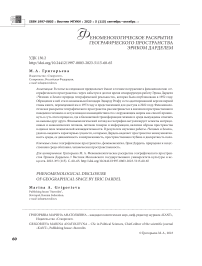Феноменологическое раскрытие географического пространства Эриком Дарделем
Автор: Григорьева М.А.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 5 (115), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье исследование предполагает ёмкое и точное погружение в феноменологию «географического пространства» через забытую и долгое время игнорируемую работу Эрика Дарделя «Человек и Земля: природа географической реальности», которая была опубликована в 1952 году. Обращение к ней стало возможным благодаря Эдварду Релфу и его адаптированной версии первой главы книги, переведенной им в 1973 году и представленной для доступа в 2022 году. Феноменологическое раскрытие географического пространства рассматривается в значении пространственного поведения человека и актуализации взаимодействия его с окружающим миром как способ проникнуть в суть этого процесса, где в бесконечной трансформации человек и среда вынуждены отвечать на вызовы друг друга. Феноменологический взгляд на географию актуализирует аспекты миграционных и экономических потоков, потоков товаров и информации, включая образы пространства в единое поле человеческой жизнедеятельности. В результате изучения работы «Человек и Земля», удалось выделить характерные сущности, которыми Дардель наделяет пространство: коммуникативность среды, ее динамичность и направленность, пространственная глубина и дискретность поля.
Географическое пространство, феноменология
Короткий адрес: https://sciup.org/144162963
IDR: 144162963 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24412/1997-0803-2023-5115-60-65
Текст научной статьи Феноменологическое раскрытие географического пространства Эриком Дарделем
PHENOMENOLOGICAL DISCLOSURE
OF GEOGRAPHICAL SPACE BY ERIC DARDEL
Marina A. Grigorieva
Publishing house "Stavrolite",
ГРИГОРЬЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА – кандидат политических наук, шеф-редактор журнала «KANT», Издательство «Ставролит»
GRIGORIEVA MARINA ANATOLIEVNA – СSc in Political Sciences, Chief-editor of the scientific journal «KANT», Publishing house «Stavrolit»
С момента своего появления «географическое пространство» стало ощутимо отделяться от чистой протяженности, переставая значиться как поверхность, контейнер и, в конце концов, места, из которых мы отправляем открытку домой, и постепенно завоевывать позиции принципа, организующего его восприятие. Пространство, опоэтизированное Гастоном Башляром [1], обследующим каждый уголок дома. Или пространство как проступающая глубина через погруженность в нее в определении Мориса Мерло-Понти [12]. Или – оно же – через прикосновение к нетронутой среде, обеспокоенной взаимодействием и конструированием из нее по-настоящему человеческого места, к которому обращается Отто Фридрих Боллноу [6, c. 33–34]. А также – через ландшафтное раскрытие провокативной основы пространства, приглашающего располагать собой, у Мартина Хайдеггера [3], и, наконец, через дискретность пространственной формы, к которой апеллирует Мишель Фуко [10], то есть ее «служебный» характер и оппозиционную направленность частного и публичного, культурного и утилитарного, рабочего и предназначенного для отдыха, – таким образом создается проекция феноменологического всматривания и поля для дискуссий. Кроме того, что пространство становится социальным жилищем, по Зигмунту Бауману [4], на него устремляет свой взгляд – с позиции изучения перспектив и обустройства – архитектура и, в частности, Гернот Бёме [5].
Географическое пространство вырезано из материи и поэтому остро переживает плотское присутствие, возможное только благодаря фиксирующему и раскрывающему его содержание движению . Перемещение позволяет «сцене», представленной нашему взгляду, меняться и давать пространству возможность быть воспринятым как нечто, в чем мы находимся. Именно изменения перспективы и попеременная фиксация рождают ощущение пространственности и ощущение плотского присутствия, в которую входят и промежутки, которые отделяют нас от вещей, в их гнетущей близости или в их мимолетной удаленности, обнаруживающие телесность вещей, форму, устройство и их предназначение. Несмотря на то, что картографическая локализация пространства равноценно характеризует местоположение, ощущение «где» в феноменологическом смысле в гораздо большей степени раскрывает условия нахождения.
Человеческая география1, таким образом, пристально оценивающая человека и человеческое сообщество в пространственном поведении, а также – явления человеческого расселения и рассеивания, актуализирует проблему миграционных и связанных с ними экономических потоков, потоков товаров и информации, объединяя явления городов, поселков, деревень и т. д. в целое – организованное поле человеческой жизнедеятельности. Выведенное Камиллем Валло в 1911 году в первом томе его «Социальной географии» определение «географического пространства» как то, что снабжено «более или менее большим количеством физических характеристик, разнообразие и взаимопроникновение которых разворачивается перед нашими глазами на поверхности земли» [14], наделяет его метафизической сущностью, связывая положение отдельных его участков с ценностью для эксплуатации. Исчисление ценности чистого пространства как объекта стремления к экспансии обращено у Валло прежде всего к условиям, приводящим в движение цепь событий географических открытий и последующих колониальных завоеваний. Вместе с тем, введенное в оборот «географическое пространство» всё же не могло избавиться от топографических крючков своей привязанности к местности и сумело освободиться от них только в 1950-е годы, выйдя из-под пера Эрика Дарделя [7], незаслуженно забытого на три десятилетия – время, за которое, как отмечает Дмитрий Замятин, «географическое пространство стало как бы автоматически ‟разбухать‟» [2, c. 26] под давлением насыщающих его образов и измерений.
С 1952 года работа Дарделя «Человек и Земля: природа географической реальности» была фактически утеряна, ожидая случая обрести вторую жизнь. В 2011 году, когда она была переиздана на португальском в переводе Вальтера Хольца [8] с французского языка, на котором она вышла двадцатью годами ранее, отдельные фрагменты книги стали получать новое прочтение, в том числе в формате рецензий и посвящений. Причиной, по которой она оставалась на библиотечной полке в неприкосновенной невинности, в предположении швейцарского профессора Клода Раффестена [13], послужили поэтизированный язык Дарделя, изобилующий метафорами, не дававшими восприятию беспрепятственно пробиться к содержанию «Земли», а также свежесть взгляда и уникальность наблюдений, вооружившись которыми он принялся изучать мир. Разумеется, это была бы единственная причина, если не считать того, что «Человек и земля» была опубликована в качестве главы по географии в сборнике «Новая философская энциклопедия» и весьма ограниченным тиражом. Впервые, как отмечает Вальтер Хольцер [11] в предисловии к португальскому изданию, книга была упомянута в 1961 году в исследовании Максимилиана Сорре, который входил в комиссию по оценке диссертации Дарделя. Спустя еще 12 лет в университетской библиотеке Торонто книгу обнаружил Эдвард Релф и дал отсылку к Дарделю в своем исследовании «Феномен места», а позже – в книге «Место и безместность», которая повела культурную географию в гуманистическом направлении, превратив «место» в центр и источник переживания пространства. Третья причина состояла в том, что с момента успешной защиты диссертации в 1941 году Дардель так и не дослужился до должности профессора университета, а это означало, что его работа рассматривалась вне академического контекста того времени. В российских исследованиях упоминания об Эрике Дарделе или переводы его работ пока не нашли своего отражения.
Его языковая страсть, сформировавшаяся под влиянием Мартина Хайдеггера2, а также под впечатлением (после знакомства с работами Гастона Башляра) Мориса Мерло-Понти, Жан-Поля Сартра, Эммануэля Левинаса, подпитывалась поэзией Фридриха Гельделина и Перси Биши Шелли и стала фундаментом для глубокой интерпретации географии человеческого существования. В итоге дарделевское исследование было нацелено на то, чтобы расшифровать Землю и знаки, которыми она испещрена и усеяна, как полотно из текста, где сама «Земля – это письмо <…> с узорами береговой линии, очертаниями гор, извилистостью рек» [7, c. 2], а географ – читатель мира, позволяющий установиться связи между пространством и человеком.
Структурно, со слов Дэвида Эмануэль Мадейра Давима, [9] «Человек и Земля» разделена на две главы, первая из которых – «Географическое пространство» – объединяет геопоэтические и эпистемологические усилия Дарделя сделать географию менее инертной и прикладной и сблизить ее с семиотикой. Вторая глава посвящена «Истории географии», где он прослеживает удивительную траекторию географического сознания в различных временных контекстах, начиная с древних обществ и заканчивая своим критическим анализом научной географии XIX века. Каким-то образом интуитивно обращаясь к глобальной концепции мира с содрогающей его тревогой в предчувствии лихорадки череды трансформаций и вынуждающей к аффективной борьбе с «‟тёмным фоном‟ окружающей природы» [7, c. 27], Дардель оказывается в центре человеческой географии, то есть ее гуманистического направления, в которое позже откроет двери Эдвард Релф.
Чтобы как-то структурировать фрагментированное полотно работы «Человек и земля», можно выделить характерные сущности, которыми Дардель наделяет пространство. Прежде всего, это коммуникативность среды, произрастающая из провокативной основы пространства, по Мартину Хайдеггеру. Ощупывание Дарделем географии начинается с поиска им условий обитания, которые раскрывают разнообразие отношений между человеком и пространством и устанавливают, таким образом, язык, форму коммуникации, взаимообуславливающей связи, которую Дардель означивает как «призыв» [7, c. 6], обращение или императив. Эту связь наше восприятие способно уловить и перевести. Этот приглашающий мотив уступчивой среды, сквозящий в ее природе, приглашающей человека воздействовать и располагать собой, можно найти в «Искусстве и пространстве» Хайдеггера [3]. И в то же время в кажущейся пассивности пространства скрыта его склонность к постоянной трансформации, изменчивости и направленности – движению и динамизму. В связи с чем вторая характерная позиция пространственности Дарделя – динамичность и направленность среды, сообразующаяся с концепцией «центра» Отто Фридриха Боллноу и надстройки пространства из начальной «точки опоры» [6, c. 32], то есть дома, ко всем доступным направлениям. При этом дом противопоставлен расстоянию [6, c. 120], с утратой которого теряются отношения человека с пространством.
Географическая реальность – у Дарделя – в этом смысле так же отвечает динамическим условиям направления, расстояния и приближения (близости). Когда мы стремимся сделать вещи ближе, как он пишет, «нам необходимо ориентироваться, чтобы распознавать окружающую среду»[7, c. 3], поэтому человек без страны, как он говорит, это человек, который «дезориентирован» и колеблется, а значит – колеблется во всех смыслах, в том числе относительно направления, в котором следует двигаться. Направление и расстояние определяют ситуацию, под которой Дардель понимал стабильное и инертное место, предполагающее «фиксирующее место его существования» [7, c. 19].
Третья характеристика строится из пространственной глубины, которая раскладывается у Дарделя на «теллургическое» пространство, обеспечивающее свойства глубины, твердости и пластичности; «водное», в основе которого лежат ценности жизни и движение времени; «воздушное», отражающее эстетические ценности, символическое и эмоциональное измерения; и надстроенное «искусственное», представляющее собой ландшафт и исторический продукт, как результат взаимодействия трех остальных. Географическое пространство, дословно, «имеет горизонт, рисунок, цвет, плотность; оно твердое, жидкое или воздушное, широкое или узкое: оно ограничивает и сопротивляется» [7, c. 2]. Это трехмерное построение с его метафорической глубиной как первичного измерения природы появляется в «Феноменологии восприятия» Мерло-Понти, когда он обрушивается с критикой против декартовской «плоской» онтологии объекта, сводящей природу, в том числе пространственную, к чисто механической. Будь пространство действительно картографическим, то достичь абсолютного знания о нем, не составило бы труда, тем не менее мы не можем стоять перед ним, чтобы схватить его как «нечто известное» [12, c. 244]. Его глубина или расстояние в то же самое время демонстрируют углубление и дистанцирование, является тем самым условием, благодаря которому мы в итоге получаем и знание, и опыт обитания в пространстве. Поскольку оно предлагает нам ощутить не только препятствие, а сам способ доступа: мы познаем природу вещей не вопреки этой глубине, а благодаря ей.
Следующая позиция связана с дискретностью, к которой нас отсылает в «Поэтике пространства» Гастон Башляр, когда, вслед за ним мы, заполучив двойную порцию наблюдательности, ощупываем все уголки дома, в довершение обращаясь к комодам, шкафам, ящикам стола и полкам. Тем временем Дардель работает «на открытом воздухе», поскольку встреча человека и земли незабываема: «Фиксировать движущееся, неуловимое, подчинять разуму то, что его переполняет и искушает, и все это одновременно, <…> выходя за рамки простой научной заботы о замерах температуры и солености» [7, c. 8]. Географ, который измеряет и вычисляет, приходит позже; вначале появляется тот, кому «земля открывает свое «лицо»: мореплаватель, высматривающий новые земли, исследователь в кустах, первооткрыватель, эмигрант или просто человек, истязаемый бурями, вулканическими извержениями, наводнениями. Существует первичное видение Земли, которое знание затем корректирует» [7, c. 9]. Наука начинается с видения, ослепления, созерцания, то есть, в конечном счете, с погружения в пространственный поток, позволяющий по отдельным приметам расшифровать его и интерпретировать: «Север – это не только направление, подобное любому другому, но и область нашего воображения или нашей памяти, это ветер, холод, мороз, враждебные моря, бедные почвы»[7, c. 8], закаляющие выносливость. В то время, как ленивый, но дружелюбный Юг с его солнцем, огненным небом и каменистыми кустарниками, оплодотворенными водой, готов идти на любые уступки.
В области аффективной географии Дар-дель всё сильнее попадает под влияние пространственных образов и не хочет их отпускать, поскольку из тактильных ощущений и «визуального их проявления» [7, c. 21] в конце концов они материализуются в идеи и понятия. Колебания Дарделя между географией под открытым небом и научной географией вечны, так же как «научная география в определенном смысле является противоположностью географическим открытиям, которые требуют усилия воли, вкуса к риску, определенной открытости к радости или удовольствию от исследователя» [13, c. 475]. Дардель был бы скорее Маленьким принцем Сент-Экзюпери, чем географом; он был бы почти готов пожертвовать твердостью знания ради удовольствия от опыта.
В заключение, с тех пор как география вошла в учебный класс, она утратила свою цветущую пышность и стремление навстречу неизвестности, и в общем всякую связь с первым робким каботажным плаваньем и последующим отчаянным кругосветным путешествием. И феноменологический взгляд Эрика Дарделя, наконец, впервые с тех пор, как география успела обратиться в плоское полотно атласа с аккуратно нанесенными на поверх- ности указаниями высоты и протяженности, оживляет географическое пространство, через которое можно разглядеть связь не только с человеческим телом, а увидеть условие коммуникации между плотью мира и плотью человека; движение, способствующее формированию пространства и социальной жизни, пространственную глубину, полагающуюся на чувственное восприятие и уединенность «места», вписанного в глобальную географию.
Список литературы Феноменологическое раскрытие географического пространства Эриком Дарделем
- Башляр Г. Поэтика пространства / пер. с фр. Н. Кулиш. Москва: Ad Marginem, 2014. 352 с.
- Замятин Д. H. Культура и пространство: Моделирование географических образов. Москва: Знак, 2006. 488 с.
- Хайдеггер М. Искусство и пространство // Судьба искусства и культуры в западноевропейской мысли XX в.: Сб. статей / пер. Вл. Бибихина. Москва, 1979. [Электронный ресурс]. URL: http://www.bibikhin. ru/iskusstvo_i_pro stran stvo
- Bauman Z. Desert spectacular // The Flaneur (RLE Social Theory) / Ed. by Keith Tester. Routledge, 2014. 216 р. Pp. 138-157.
- Bohme G. Les atmosphères comme objet de l'architecture // Les Cahiers philosophiques de Strasbourg. 2019. № 46. URL: http://journals.openedition.org/cps/3435
- Bollnow O. F. Human space / translated by Christine Shuttleworth, edited by Joseph Kohlmaier. London: Hyphen Press, 2011. 158 p.
- Dardel E. Man and the Earth: the nature of geographical reality [L'Homme et la Terre: Nature de la Réalité Géographique] (published by Presses Universitaires de France in 1952, translated by Edward Relph in 1973 with revisions in 2022). 30 р.
- Dardel É. O Homem e a Terra: natureza da realidade geográfica / trad. Werther Holzer. - Sâo Paulo: Editora Perspectiva, 2011.
- Davim D. E. M. O homem e a terra: natureza da realidade geográfica // Revista da Abordagem Gestáltica. 2016. № 22(2). Рр. 249-252. URL: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttex-t&pid=S1809-68672016000200020&lng=pt&tlng=pt
- Foucault M. Des espaces autres // Empan. 2004. № 54. No2. Pp. 12-19. DOI: 10.3917/empa.054.0012.
- Malanski L. M. Éric Dardel - O homem e a terra: natureza da realidade geográfica // Terr@ Plural, Ponta Grossa. 2015. V. 9. N1. Pp. 135-142.
- Merleau-Ponty M. Phenomenology of perception / trans. Colin Smith. New York: Routledge & Kegan Paul Ltd, 2005. 544 p.
- Raffestin C. Pourquoi navons-nous pas lu Éric Dardel? // Cahiers de géographie du québec. 1987. Vol. 31. No 84. Рр. 471-481.
- Vallaux C. Le Sol et L'État. Paris: Octave Doin et Fils, 1911. 420 p. Рр. 145-146.