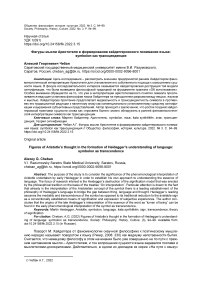Фигуры мысли Аристотеля в формировании хайдеггеровского понимания языка: symbolon как трансценденция
Автор: Чебан Алексей Георгиевич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3, 2022 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования - рассмотреть значение предпринятой ранним Хайдеггером феноменологической интерпретации Аристотеля для становления его собственного подхода к осмыслению сущности языка. В фокусе исследовательского интереса оказывается хайдеггеровская деструкция той модели сигнификации, что была возведена философской традицией на фундаменте трактата «Об истолковании». Особое внимание обращается на то, что уже в интерпретации аристотелевского понятия символа прослеживается ведущая установка философии языка Хайдеггера на преодоление разрыва между вещью, языком и мыслью. Хайдеггерово прочтение предполагает медиальность и трансцендентность символа в противовес его традиционной редукции к наличному знаку как конвенционально установленному средству сигнификации и выражения субъективных представлений. Автор приходит к заключению, что ростки поздней хайдег-геровской трактовки сущности слова как «просвета бытия» можно обнаружить в ранней феноменологической интерпретации символа как трансценденции.
Мартин хайдеггер, аристотель, symbolon, язык, kata syntheken, знак, трансценденция, теория сигнификации
Короткий адрес: https://sciup.org/149140193
IDR: 149140193 | УДК: 1(091)
Текст научной статьи Фигуры мысли Аристотеля в формировании хайдеггеровского понимания языка: symbolon как трансценденция
(Хайдеггер, 2018: 118) Хайдеггер цитирует Аристотеля, занимая дистанцию в отношении основанной на его логических сочинениях теории сигнификации, загораживающей доступ к осмыслению существа языка. Однако тридцатью годами ранее, в курсе лекций зимнего семестра 1925/26 года, то же самое место интерпретировалось совершенно иначе – с явным намерением, заручившись авторитетом Аристотеля, преодолеть те традиционные подходы к пониманию языка, которые Хайдеггер критиковал и в поздний период. Текст, о котором идет речь – это знаменитый фрагмент из первой главы трактата «Об истолковании»: Ἔστι μὲν οὖν τὰ ἐν τῆι φωνῆι τῶν ἐν τῆι ψυχῆι παθημάτων σύμβολα, καὶ τὰ γραφόμενα τῶν ἐν τῆι φωνῆι. καὶ ὥσπερ οὐδὲ γράμματα πᾶσι τὰ αὐτά, ο ὐδὲ φωναὶ αἱ αὐταί· ὧν μέντοι ταῦτα σημεῖα πρώτως, ταὐτὰ πᾶσι παθήματα τῆς ψυχῆς, καὶ ὧν ταῦτα ὁμοιώματα, πράγματα ἤδη ταὐτά (1, 16 a 5-8). Э.Л. Радловым данное место переведено следующим образом: «Итак, то, что в звукосочетаниях, – это знаки представлений в душе, а письмена – знаки того, что в звукосочетаниях. Подобно тому как письмена не одни и те же у всех [людей], так и звукосочетания не одни и те же. Однако представления в душе, непосредственные знаки которых суть то, что в звукосочетаниях, у всех [людей] одни и те же, точно так же одни и те же и предметы, подобия которых суть представления» (Аристотель, 1978: 93).
Согласно традиционному прочтению, Аристотель различает здесь три отдельных и независимых друг от друга региона сущего: объективная реальность (πράγματα – «предметы»), внутренние душевные процессы («представления») и знаковую систему языка («письмена» и «звукосочетания»). Связь между этими тремя сферами сущего осуществляется через трехступенчатую схему знаковых отсылок (референций):
-
1) письмена – это знаки звукосочетаний;
-
2) звуки – знаки субъективных представлений;
-
3) представления субъекта – знаки вещей.
Язык, таким образом, располагается между предметом и субъектом. Отсюда же берут свое начало семантические дистинкции: слово – знак датируемого ментального события, значение слова определяется референтом, реальным предметом (событием). Неудивительно, что Хайдеггер, поднимая вопрос о сущности логики, и позже – о сущности языка, – неоднократно обращается именно к данному фрагменту. Ведь на нем строится метафизическая традиция понимания языка, и, следовательно, каркас современного языкознания. В упомянутой лекции «Логика. Вопрос о сущности истины» Хайдеггер дает интерпретирующий перевод данного фрагмента:
«Так вот, это всё – языковые озвучивания (слова словаря) того, в чем узнается (kenntlich wird) то, что встречено (begegnet ist) в действии души (восприятии, обдумывании). А написанное являет то, в чем узнаются слова речи (Worte) . И как письменные знаки не для всех людей одни и те же (у египтян не такие, как у греков), точно так же и звуки (формы озвучивания) – не одни и те же. Однако то, знаком чего являются эти озвучивания – в первую очередь (собственно) слова словаря, т. е. что они в качестве словарных слов позволяют озвучить, ради чего они как слова словаря являются словами речи, – это то, что для всех встречается тем же самым образом как идентичное, как подразумеваемое и воспринятое, и даже то, чему подразумеваемое и понятое равны по значению, – само сущее, с которым мы имеем дело – πράγματα, – это является уже с самого начала, в самом себе тем же самым» (Heidegger, 1976: 166–167).
Толкующий перевод демонстрирует явное намерение философа осуществить деструкцию сложившегося за два с лишним тысячелетия подхода к пониманию языка, основанного на рецепции данного трактата. Хайдеггер пытается редуцировать ростки традиционной гносеологической схемы прочтения аристотелевского текста. Одним из таких ростков является, по его мнению, перевод аристотелевского слова παθήματα термином «представления» ( Vorstellungen ) (Heidegger, 1976: 167). В таком случае из фрагмента автоматически вычитывается психофизическая дуальность и теория отражения: психические состояния – это образы вещей, существующих вне самой души. Хайдеггер считает такой перевод неприемлемым: в тексте стоит не πάθη, что могло бы значить «состояния» ( Zustande ), но пабпрата - то, что встречается ( begegnet) и в качестве встречающего ( als Begegnendes ) принимается (как данное) (Heidegger, 1976: 167). Таким образом, все происходящее в душе – не вторичный продукт мысленного воспроизведения того, что было увидено в реальности, но всегда событие прикосновения сущего, «встречи» с ним. Интерпретация παθήματα как «встречающего» ( Begegnendes ) дает возможность иначе взглянуть и на смысл ὁμοιώματα («подобия») во фрагменте Аристотеля. Раз мысль (равно как и любое действие души) – не представление, то и подобие – не результат отображения или изображения. Любая речь является не отображением ( Abbild ), но обнаруживающим позволением увидеть, которое открывает сущее таким, какое оно есть, поскольку уже как-то встречено, т. е. открыто. Хайдеггер настаивает на исключительно апофантическом понимании ὁμοίως у Аристотеля.
Наконец, деструкции подвергается третий несущий элемент языкознания и семиотики – понятие символа. Бросается в глаза, что при переводе σύμβολα Хайдеггер не просто отказывается от привычных вариантов «знаки», «символы», но вместо какого-либо другого эквивалентного существительного использует глагольную форму kenntlich werden : «становиться узнаваемым». Если Аристотель – это феноменолог (каким его хочет видеть Хайдеггер), то слово σύμβολον он должен был использовать формально-указующе: всякий звук нечто значит, становится словом речи, когда сбывается в своем существе как σύμβολον в самом непосредственном, исходном значении этого слова. Прочтение Хайдеггера держится на фигуральном значении и полностью отстраняется любого устоявшегося, терминологического: σύμβολον – половинка кольца, которая узнается при соприкосновении с другой (Heidegger, 1976: 167). Сюмболон – не отображение, не образ-заместитель, но другая сторона, причем присутствующая привативно. И в том же фигуральном ключе прочитывается весь пассаж: смысл σύμβολον – в самоузнавании, происходящем благодаря встрече с чем-то другим, чем он сам. Слово встречается с вещью. И слова как ψυχῆι παθημάτων σύμβολα – не «знаки представлений души». В них становится узнаваемым ( kenntlich wird ) то, что встречено душевным отношением «внятия» и «обдумывания».
В методологическом плане мы можем здесь отметить стремление немецкого философа к актуализации фигур в мысли Аристотеля (в пику сомнительным попыткам реконструировать аутентичную терминосистему античного мыслителя). Хайдеггер предъявляет аристотелевский сюмболон как живой образ живой мысли. Действительно, текст Стагирита указывает на самодостаточность фигуральной функции слова σύμβολον: какие-либо признаки терминологизации, жестко фиксирующей некий объект, отсутствуют; σύμβολον остается без дефиниции. Поэтому наивно полагать, что мы можем вычислить или «распаковать» содержимое самой мысли Аристотеля (в частности – установить наличный объект, поименованный «символом»). Все, чем мы располагаем – это только образ данной мысли. В этом свете стратегия хайдеггеровского толкования кажется оправданной: если ход мысли Аристотеля исключает как прямое узуальное значение, так и специальное терминологическое, то следует сконцентрироваться на той образности, которую несет с собой слово σύμβολον, на его фигуральном смысловом эффекте, скрепляющем дискурс. На наш взгляд, архитектоника интерпретации Хайдеггера задана именно этим фигуральным смыслом, от него она отталкивается как от наиболее существенного.
Для устоявшейся рецепции Аристотеля хайдеггеровские интерпретации – вызов. В Аристотеле видят того (здесь мы опираемся на свидетельства В. Йегера и А.Г. Чернякова), кто разорвал связь между сущим и логосом и стал основателем теории сигнификации и семиологии (Черняков, 2009: 140). Эта теория предполагает разрыв между вещами, языком, мыслью и анализирует их в качестве отдельных наличных предметов. В своем феноменологическом истолковании Аристотеля Хайдеггер намеревается устранить именно этот разрыв. Конечно, встает вопрос, осталось ли в хайдеггеровской интерпретации σύμβολον хоть что-то аристотелевское? Толкующее своеволие Хайдеггера – излюбленная мишень для критиков его философии. Тем не менее, к интерпретациям германского мастера полностью присоединяется Жан Бофре, показывая, что они подбираются ближе к тексту Аристотеля, который не столь однозначен, как кажется. Бофре делает интересное замечание о «чудесной двусмысленности» мышления Аристотеля. Эта двусмысленность, по мнению французского философа, присутствует и в аристотелевском истолковании «написанных или членораздельно выраженных слов как символов» (Бофре, 2009: 130). С одной стороны, символ случаен в своей роли лингвистического знака, с другой – он в своей сочленяющей одно с другим функции представляет собой часть «более существенного единства» (Бофре, 2009: 130). Бофре справедливо отмечает, что в случае Аристотеля гипотеза о выводимости символизма имен из языка как системы знаков не более очевидна, чем допущение об их определимости «исходя из совершенно другой истины, чем сведение истины к меркам системы» (Бофре, 2009: 131). Сущность символа следует искать не в знаковых системах языка, а в том месте , куда врастает всякий языковой знак. Формально-указующе это место и есть встречность мира, его экстатическая мирность.
Мы уже видели, что Хайдеггер истолковал сущностную сторону символа как событие узнавания. Из этого следует, что узнаваемость (различимость) форм сущего не является результатом снабжения их знаками-символами, созданными для идентификации представлений (в качестве знаков вещей). Равно как и знаки не существуют каким-то образом сами по себе (по природе), лишь впоследствии получая в акте сигнификации конкретные значения. Против последней схемы непосредственно выступают аристотелевские слова: «ведь от природы нет никакого имени» («Об истолковании» 2, 16a 27). По мнению Хайдеггера, Аристотель здесь спорит с Платоном и вопреки последнему ясно усматривает, что «речь, когда она движется в языке, есть нечто такое, что согласно своему собственному бытию вырастает из свободного человеческого измеривания, но не является φύσει» (Heidegger, 2006: 18). Однако утверждения Аристотеля в данном сочинении намекают на конвенциональное установление языка: «[Имена] имеют значения в силу соглашения (τὸ δὲ κατὰ συνθήκην) <…> А [возникает имя], когда становится знаком» (2, 16a 27–28); «Всякая речь что-то обозначает, но не как естественное орудие (οὐχ ὡς ὄργανον), а … в силу соглашения» (4, 17a 1–2). Хайдеггер не проходит мимо этих мест, но показывает, что κατὰ συνθήκην не предполагает конвенций, хотя и указывает на историчность языка. Слово не имеет одного устойчивого значения, которое подразумевается вещью. Оно не продукт физиологии, не инструмент. Слова речи существуют «согласно благоусмотрению» – так немецкий философ передает смысл κατὰ συνθήκην (Heidegger, 2006: 16). Слово сотворено не путем целенаправленного акта именования вещей – их кодирования и инвентаризации в соответствии с выявленнными существенными признаками, – но оно всегда уже оказывается «вросшим» в ближайшее усмотрение вещей, в «предмнения» о них (Heidegger, 2006: 16). На то, что генезис языка видится Аристотелю не конвенционально, указывает его утверждение «имя возникает, когда рождается символ» – ἀλλ' ὅταν γένηται σύμβολον (2, 16a 27–28). У языка есть история, генезис, но генезис этот отсылает к сюмболону, в котором совершается узнавание.
Такое свершение узнавания в знаке всегда раньше любой процедуры сигнификации, а это значит, что исключается и допущение о процедуре соглашения как источнике возникновения языка, и представление о функционировании слова по аналогии с инструментом. Хайдеггер подчеркивает недопустимость инструментальной аналогии: слово присутствует не так ( ist nicht so da ), как инструмент – ein Werkzeug (οὐχ ὡς ὄργανον) (Heidegger, 2006: 16). В этом смысле σύμβολον, следует отличать от наличных знаков символов, готовых для исполнения функции обозначения: он рождается встречей-согласием, поэтому сущность σύμβολον – не только до сигни-фикации, но и до предикации. Хайдеггеровское усиление этой мысли вполне согласуется с установкой Аристотеля на неприятие любых объяснений, ведущих в дурную бесконечность. В самом деле, инструментальная аналогия вынуждена отвечать на вопрос о том, как вообще возможен момент перехода от ничего не говорящего крика к означающему голосу (φωνή σημαντική). Договоренность об означающих что-либо знаках как условии существования языка предполагает уже наличие языка в качестве условия всякого соглашения. Ни средства выражения, ни система означающих и означаемых не являются сами по себе душой, энтелехией языкового организма. Здесь уместно сопоставление с фрагментом из трактата «О душе», в котором Аристотель на примере глаза соотносит живое существо и его сущность (форму): «Ведь зрение и есть сущность глаза как его форма (глаз же есть материя зрения); с утратой зрения глаз уже не глаз, разве только по имени, так же как глаз из камня или нарисованный глаз» (Аристотель, 1984: 395). Зрение онтологически предшествует глазу. Аналогично и язык является языком в своей сущностной полноте только если вместе с ним нечто увидено, если он исполняется на основании φαντασία. Если в речи не обнаруживается вещи, и сущее как таковое не открыто, то такая речь уже не речь. Открытость мира, встреча с сущим, онтологически предшествует сигнификации и выражению, так же как зрение – глазу и раскалывание – топору. Следовательно, вопрос о логосе самого логоса (языка, речи) спрашивает не о механизме, устройстве и развитии языка, но о его энтелехии, форме. В таком случае можно сказать, что форма языка заключается в показывании формы (вещей), энтелехия языка – в обнаружении энтелехии, а его назначение – само видение цели. В данной перспективе не чуждым Аристотелю оказывается хайдеггеровское толкование κατὰ συνθήκην, подразумевающее, что слово возникает и исполняется в своем существе всякий раз, когда в «благоусмотрении» рождается σύμβολον как встреча-совпадение с целью и происходит обнаружение сущности и энтелехии вещей.
В лекции 1930 года «Основные понятия метафизики» Хайдеггер остается при тех же самых трактовках σύμβολον и κατὰ συνθήκην, когда утверждает, что Стагирит усматривал в этих титулах языка то, что сегодня именуется «трансценденцией» (Хайдеггер, 2013: 464). Генезис символа толкуется здесь как «соглашение человека с тем, к чему он имеет отношение» (Хайдеггер, 2013: 468), то есть с доступным сущим как таковым. Условием возможности речи является событие символа, в котором с самого начала «происходит само-сопоставление человека с чем-то еще» (Хайдеггер, 2013: 463). Это само-сопоставляющее согласие с другим выступает дополнительным указанием на феномен встречи и узнавания. Слова не установлены договором, но вырастают из того сущностного соглашения людей друг с другом, в соответствии с которым они в их совместном бытии открыты для окружающего их сущего » (Хайдеггер, 2013: 464).
После Хайдеггера данной линии толкования значения κατὰ συνθήκην придерживался Х.-Г. Гадамер. Как и Хайдеггер, он считает, что Аристотель не отделял значения языка от мира вещей, который именуется словами (Гадамер, 1988: 500). Что касается соглашения о значении знаков, то оно характеризует «способ бытия языка и ничего не говорит о его возникновении»
(Гадамер, 1988: 501). Этот способ бытия языка заключается не в договоренностях, но в «основополагающей согласованности в том, что считается хорошим и правильным» (Гадамер, 1988: 500). Сами эти общие представления о том, что хорошо и правильно, свидетельствовали для Аристотеля скорее о бытийной значимости последних, чем об их возникновении вследствие номотети-ческой деятельности «божественных личностей» (Гадамер, 1988: 500).
Как видим, Хайдеггер не остался одиноким в своем перепрочтении σύμβολον и κατὰ συνθήκην: близкие по смыслу аристотелевские импликации присутствуют у Гадамера и Бофре. Конечно, и для Хайдеггера, и для его последователей цели интерпретации выходили далеко за рамки аристотелеведческих. Вместе с борьбой за новое понимание Аристотеля инициированная Хайдеггером интерпретация стремится отвоевать мысль о языке у господствующих концептуально-методологических установок, потому что ни инструментализм, ни конвенционализм, ни теории корреспонденции, сигнификации и референции не позволяют увидеть сущность языка в полноте. Все они загораживаются – повторим вслед за Бофре – от «двусмысленности» аристотелевского символа. Хайдеггер показывает эту двусмысленность экстатичным феноменом «узнавания встречающего» в разомкнутости мира. В докладе 1959 года он говорит в той же связи об «указывании» (Хайдеггер, 1993: 261). Экстатически-медиальный смысл символа теряется в случае его описания в метрике оппозиции «объективная реальность – знак». Символ является моментом трансценденции, следовательно, и язык является порождением открытости (в излюбленном для немецкого философа смысле двойного родительного падежа). Таким образом, уже в ранней феноменологической интерпретации символа как трансценденции можно увидеть зачаточные формы поздней хайдеггеровской трактовки сущности слова как «просвета бытия» и языка как «сказа», в котором исходным является «указывание».
Список литературы Фигуры мысли Аристотеля в формировании хайдеггеровского понимания языка: symbolon как трансценденция
- Аристотель. Сочинения: В 4-х томах. Т. 2. М., 1978. 687 с.
- Аристотель. Сочинения в 4-х томах. Т. 1. М., 1984. 550 с.
- Бофре Ж. Диалог с Хайдеггером: в 4-х книгах. Кн. 3. Приближение к Хайдеггеру. СПб., 2009. 358 с.
- Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. 704 с.
- Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 2008. 695 с.
- Хайдеггер М. Сущность языка // «Герменея». Журнал философских переводов. 2018. № 10. С. 83-129.
- Хайдеггер М. Основные понятия метафизики. Мир - конечность - одиночество. СПб., 2013. 591 с.
- Хайдеггер М. Путь к языку // Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993. 447 с.
- Черняков А.Г. Язык по ту сторону сущности: Левинас и Горгий // Фактичность и событие мысли. Вильнюс, 2009. С. 130-143.
- Heidegger M. Logik. Die Frage nach der Wahrheit. Gesamtausgabe. Bd. 21. Frankfurt a. M., 1976. 425 S.
- Heidegger M. Einführung in die phänomenologische Forschung. Gesamtausgabe. Bd. 17. Frankfurt a. M., 2006. 332 S.