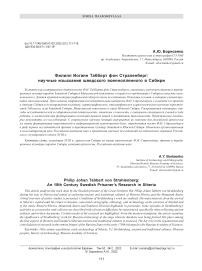Филипп Иоганн Табберт фон Страленберг: научные изыскания шведского военнопленного в Сибири
Автор: Борисенко А.Ю.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Эпоха палеометалла
Статья в выпуске: 2 т.50, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается деятельность Ф.И. Табберта фон Страленберга, связанная с изучением древних и традиционных культур народов Западной Сибири и Минусинской котловины, в период его пребывания в Сибири в качестве военнопленного. Дается краткий историографический обзор по теме исследования. Показаны условия, в которых ученый проводил свои изыскания. Прослежены направления исследовательских интересов Ф.И. Страленберга с момента его приезда в столицу Сибири и до возвращения на родину: картографическое, этнографическое и археологическое изучение окрестностей Тобольска, всей Западной Сибири, Минусинской котловины в горах Южной Сибири. Раскрываются некоторые эпизоды исследовательской и собирательской деятельности; отмечены сложности, с которыми сталкивался ученый в ходе работы, в частности при формировании коллекций древних вещей и памятников письменности. Представлены некоторые результаты его исследований. С современных научных позиций оценивается их значение для российской археологии на этапе формирования вещественной и информационной источниковой базы, определяется место Ф.И. Страленберга в ряду первых исследователей древних и традиционных культур Западной и Южной Сибири. Отмечена организационная и консолидирующая роль Российской академии наук в проведении научных исследований на отдаленных окраинах Российского государства в начале XVIII в.
Экспедиции xviii в, археология сибири на этапе становления, ф.и. страленберг, древние и традиционные культуры народов сибири, история археологии, российская академия наук
Короткий адрес: https://sciup.org/145146525
IDR: 145146525 | УДК: 930.85(571.1/5)"18" | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.2.111-118
Текст научной статьи Филипп Иоганн Табберт фон Страленберг: научные изыскания шведского военнопленного в Сибири
Первая половина XVIII в. характеризуется всплеском интереса со стороны западноевропейских стран к России. Причин этого было несколько. Одна из них – активная внешняя политика Петра I. Россия находилась в состоянии войны со Швецией, в ходе которой, по разным оценкам, в плен попало от 15 до 25 тыс. шведских граждан [Макарова, 2013, с. 125]. Вновь предпринимались попытки проложить морской путь в Китай и Индию через российские территории [Алексеев, 1932, с. 59]. Возможно, с этим связано появление в 20–30-е гг. XVIII в. в Европе работ, посвященных Российскому государству, его истории, выдающимся личностям, культурным особенностям [Савельева, 1984, с. 65]. Другая причина – в начале XVIII в. внутри самой России в связи с расширением государственных границ в предыдущем столетии возникла потребность в более подробном изучении новых отдаленных регионов. Чтобы закрепить за Российской империей статус морской державы, завоеванный в ходе Северной войны, важно было найти пролив между Азией и Америкой. Это стало, вероятно, одной из причин, почему Петр I был крайне заинтересован в организации исследовательской экспедиции к восточным окраинам страны [Грищев, 2007, с. 5–6] и незадолго до смерти 23 декабря 1724 г. издал указ о снаряжении Первой Камчатской (Первой Сибирско-Тихоокеанской) экспедиции. Изданные в феврале 1718 г. и феврале 1721 г. указы Петра I о передаче и продаже старинных и «куриозных» вещей в казну свидетельствуют о его заинтересованности не только в географическом, но и в историческом, а также культурологическом исследовании российских земель.
Отсутствие в России собственных научных кадров и сложившегося понимания, как проводить подобные изыскания, диктовало необходимость привлечения различных иностранных специалистов для проведения научно-исследовательской работы. Это вовлекло Россию в международный процесс обмена кадрами, который для европейских научных учреждений был к тому времени уже привычным: во Франции работали итальянские ученые, в Англии – немецкие. К началу XVIII в. в Европе уже существовала научная инфраструктура – были созданы французская, немецкая, итальянская и др. научные академии. Во время совершения «Великого посольства» Петр I лично посещал европейские музеи и научные общества. Он был знаком с известными учеными – Г.В. Лейбницем, Н.К. Витзеном и др. Создание в 1724 г. Академии наук должно было показать стремление Российского государства занять достойное место среди современных просвещенных держав. Тесная связь Российской империи с германскими государствами в некоторой степени может объяснить, почему именно немецкие ученые в первую очередь были приглашены для научно-исследовательской деятельности во вновь созданной Российской академии наук. В первые 20 лет существования 40 из 50 академических позиций в ней занимали представители германских земель: Л.Л. Блюментрост, Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер и многие другие [Алексеева, 2007, с. 130]. И хотя к началу XIX в. в Российской академии немцев несколько потеснили представители других европейских государств, в ее составе доля немецких профессоров превышала 75 %.
Интерес к сибирским древностям возник в Европе задолго до создания первого в России научного учреждения. В XV в. в Западной Сибири побывал уроженец Мюнхена И. Шильтбергер, после чего он написал книгу, в которой впервые в западноевропейской литературе привел слово «Ibissibur», это можно считать первым упоминанием Сибири [Schiltberger, 1879, р. 34–36]. Там же И. Шильтбергер кратко охарактеризовал обычаи сибирского населения. Однако до XVIII в. интере с европейцев к Сибири вряд ли можно назвать научным. Сведения зачастую содержали много небылиц, что объяснялось незнанием территории. С XVII в. в связи с присоединением новых земель, походом Ермака ситуация существенно изменилась. Это время можно считать переходом от «незнания к знанию» [Китова, 2014, с. 8], когда свидетельства перестают быть голословными и создаются очевидцами на основании собственных впечатлений.
В начале XVIII в. интерес Европы к восточным районам Российского го сударства приобрел форму целенаправленного научного изучения: на территории Сибири появились европейцы, которые занимались сбором информации в различных областях знания, формированием коллекций и т.д. Благодаря усилиям этих «пионеров» от науки, российская археология получила в свое распоряжение ценные находки. Среди них – уникальные предметы (в т.ч. из раскопок бугров-щиков), которые не встречались в процессе археологического изучения этих территорий в последующие столетия и могли быть безвозвратно потеряны для науки, если б их не приобрели или не описали европейские путешественники. Именно выходцы из Европы провели в Сибири первые раскопки археологических памятников с научной целью, зафиксировали развалины древних и средневековых сооружений, наскальные рисунки и каменные изваяния, культурные традиции местного населения до того, как они подверглись трансформации в связи с приходом и расселением русских. Результаты этих исследований вводились в научный оборот на основных европейских языках – немецком, французском и др., благодаря чему новые данные становились доступными для ученых не только России, но и Европы. Поэтому материалы, собранные на территории России исследователями из Северной и Центральной Европы, важны не только для истории археологических исследований, но и для расширения источниковой базы по древним и традиционным культурам народов Северной и Центральной Азии.
История исследования и историография вопроса
Возможность обратиться к материалам Ф.И. Стра-ленберга и критически их проанализировать имели уже участники Второй Академической (Великой Северной) экспедиции. Так, Г.Ф. Миллер указывал на некоторые ошибки своего коллеги в приводимых географических названиях. Кроме того, он считал неверным сообщение Ф.И. Страленберга о распространении обряда трупосожжения у населения Прииртышья. Спустя более 200 лет исследователи подтвердили, что у носителей некоторых культур Верхнего Прииртышья и Минусинской котловины была такая традиция погребения умерших, следовательно, Ф.И. Страленберг не так уж ошибался [Арсланова, 2013, с. 205–212; Евтюхова, 1948, с. 10–11].
Труд Ф.И. Страленберга высоко оценил П.С. Пал-лас. Во время своего путешествия по Сибири он сетовал, что ему доставили эту книгу слишком поздно. Имея в своем распоряжении существенно больший, чем Ф.И. Страленберг, массив источников, в т.ч. по древним языкам, П.С. Паллас, как и его предшественник, пришел к выводам о родстве южносибирских и североевропейских культурных комплексов [Белокобыльский, 1986, с. 22]
В.В. Радлов, приводя данные о грабительских раскопках в Южной Сибири, ссылался на работы Ф.И. Страленберга, в которых отмечались потревоженные бугровщиками захоронения [1891, с. 32–34].
На рубеже XIX–XX вв. высокую оценку архео-логиче ским исследованиям Ф.И. Страленберга дал Н.Ф. Катанов, который предложил «отдать дань справедливости» за многообразие сведений о Сибири, содержащихся в трудах ученых XVIII в. Он указывал на ценность собранных Ф.И. Страленбергом данных, касающихся языков, которые утратили свою самостоятельность к началу XX в. [Катанов, 1903]. Спустя 100 лет важность вклада Ф.И. Страленберга в изучение ряда языковых групп, в т.ч. тюркских, монгольских, финно-угорских, отмечал Л.Д. Бондарь [2016].
В период после Великой Отечественной войны деятельность немецких ученых, занимавшихся изучением Сибири в дореволюционный период, оценивалась не вполне объективно: проявилась тенденция противопоставлять их исследования изысканиям русских ученых. Личные и научные разногласия между специалистами стали рассматриваться как разногласия между русскими и немцами. Обращает на себя внимание небольшая монография М.Г. Новлянской, посвященная жизни и деятельности Ф.И. Страленберга [1966]. Работа содержит обширную биографическую главу, которую не просто дополнить даже сейчас, а также сведения об исследовательской деятельности шведского военнопленного. Автор высоко оценила вклад Ф.И. Страленберга в изучение Сибири. Как отмечает М.Г. Новлянская, хотя ученый многое не успел опубликовать после своего возвращения на родину ввиду подорванного здоровья, но даже «то, что он сделал, уже достаточно для того, чтобы поставить его в один ряд с именами тех замечательных людей, которые своими трудами внесли ценный вклад в историю изучения нашей страны» [Там же, с. 92].
В 1975 г. была издана факсимильно книга Ф.И. Страленберга «Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia», благодаря чему собранные исследователем материалы стали более доступными для специалистов, занимающихся историей археологического изучения Сибири, а также отдельных археологических культур Западной и Южной Сибири [Strahlenberg, 1975]. Это тем более важно, что на русском языке были известны лишь отдельные выдержки из материалов Ф.И. Страленберга. К сожалению, к настоящему времени его труд по-прежнему полностью не переведен и не издан на русском языке. Однако некоторые материалы Ф.И. Страленберга сегодня все-таки доступны русскоязычному читателю: в 1985 и 1986 гг. в Ленинграде были опубликованы на русском языке отдельные главы его труда [Страленберг, 1985, 1986].
Вклад Ф.И. Страленберга в изучение тагарской культуры отмечен Э.Б. Вадецкой в историографическом обзоре, представленном в работе об археологических памятниках среднего Енисея [1986, с. 51].
Ю.Г. Белокобыльский в книге, посвященной истории изучения археологических памятников Южной Сибири, уделил внимание научной деятельно сти Ф.И. Страленберга в связи с рассмотрением экспедиции 1721–1727 гг. под руководством Д.Г. Мессершмид-та. Автор подчеркивал, что, будучи соратниками, эти исследователи, безусловно, обсуждали свои находки и планы, их идеи можно считать плодом совместного труда. Однако Ф.И. Страленберг, пребывавший в Сибири более продолжительное время и использовавший другой методологический подход, смог продвинуться «в конечных результатах исследований значительно дальше» [Белокобыльский, 1986, с. 10].
В 1989 г. М.А. Демин в книге о первооткрывателях алтайских древностей также уделил внимание исследовательской деятельности Ф.И. Страленберга и его коллеги по экспедиции [1989, с. 9–10].
В 80–90-е гг. XX в. вклад Ф.И. Страленберга в изучение Сибири отмечают авторы статей, посвященных немецким ученым, которые посещали некоторые памятники в этой части Азии [Кулемзин, 1985, с. 107–108; Кулемзин, Бородкин, 1985, с. 6–7; Курочкин, 1999, с. 9–13].
В 2000-е гг. интерес специалистов к истории археологических исследований в Сибири, а также роли европейских ученых в формировании археологического, этнографического, востоковедческого знания в России продолжал возрастать. Деятельность зарубежных исследователей Сибири находила отражение в научных статьях, докладах на научных форумах, экспозициях тематических выставок [Малышева, По-знанский, 2000].
В 2001 г. был напечатан доклад М.Б. Кардаевой по истории изучения Томской писаницы, в котором, в частности, проанализирован вклад Ф.И. Стрален-берга в изучение этого памятника [2001, с. 430–431].
В сочинении шведского ученого Ф.Р. Мартина, опубликованном А.Я. Труфановым, приведена информация об исследованиях участников экспедиции 1721–1727 гг., например, об обнаружении Ф.И. Стра-ленбергом и Д.Г. Мессершмидтом китайского зеркала с рунической надписью [Мартин, 2004, с. 103, 133–134].
Важность материалов экспедиции Д.Г. Мессер-шмидта и Ф.И. Страленберга для изучения памятников древности Восточного Казахстана подчеркнул в своей статье Д.А. Байтилеу. Автор указал, что деятельность этих исследователей стала началом «целой эпохи» в изучении данной территорий [2004, с. 181–182].
В 2005 г. вышла в свет статья В.А. Эрлиха, посвященная изучению Красноярского края. В ней приводятся сведения об исследованиях немецких ученых XVIII–XIX вв., в т.ч. Ф.И. Страленберга [2005, с. 142–145].
В 2000 г. нами была защищена диссертация, посвященная роли немецких ученых в изучении древностей Южной Сибири [Борисенко, 2000], позже на ее основе написана монография, в которой подводился некоторый итог изучению южносибирских древностей немецкими учеными XVIII–XIX вв. [Борисенко, Худяков, 2005]. В дальнейшем по данной проблеме нами было опубликовано несколько статьей и учебных пособий, в частности, посвященных вкладу Ф.И. Стра-ленберга в изучение древних и традиционных культур Сибири и Центральной Азии [Борисенко, 2007, 2011, 2014а, б].
В статье А.М. Буровского рассматриваются научные экспедиции, в т.ч. с участием немецких ученых, в Сибирь в XVIII в. Автор указывает на энциклопе-диче ский характер первых исследовательских экспедиций, к которым относятся экспедиции Д.Г. Мес-сершмидта и Ф.И. Страленберга. Он отмечает, что ввиду большого объема собранных материалов сами исследователи не успевали в полной мере их осмыслить и ввести в научный оборот, вследствие чего эти данные долгое время оставались неизданными (неко- торые не опубликованы и сегодня) [Буровский, 2005, с. 18–20].
В публикации, посвященной участию европейцев в формировании академической науки в России, Е.В. Алексеева упоминает о Ф.И. Страленберге как о человеке, который «чрезвычайно много сделал для исследования и освоения территорий нашей страны… кто внес значительный вклад в изучение Крайнего Севера России, Зауралья, Алтая, Дальнего Востока, Русской Америки в XVIII в.» [2007, с. 132].
В 2012 г. были изданы переведенные на русский язык дневниковые записи о путешествии Д.Г. Мес-сершмидта и Ф.И. Табберта (Страленберга) по Южной Сибири в период с ноября 1721 г. по май 1722 г. В них содержатся отдельные сведения о древностях и культуре коренного населения [Мессершмидт, 2012, с. 25–28, 30, 32, 43, 108, 110, 123, 129, 132].
Научная деятельность участников первой экспедиции в Сибирь становится предметом исследований, поддерживаемых Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ). В 2019 г. результаты работы по проекту фонда были опубликованы И.В. Тунки-ной. Автор ввела в научный оборот новые архивные материалы – фрагменты личной переписки Ф.И. Стра-ленберга, в которых сообщается о материалах, собранных в ходе экспедиции с Д.Г. Мессершмидтом. И.В. Тункина подчеркивает их значимо сть в связи с утратой архива самого Ф.И. Страленберга во время пожара в его доме в Стокгольме в 1737 г. [2019, с. 50].
Представленный историографический обзор свидетельствует о том, что интерес к деятельности, личности и биографии Ф.И. Страленберга во время его пребывания в российском плену не только не снижается, но и возрастает.
Исследования капитана Ф.И. Страленберга в Западной Сибири
В XVIII в. наибольший интерес в Европе вызывали воспоминания, дневники, описания, оставленные людьми, которые в силу различных обстоятельств оказались в описываемых ими местах. Именно к таким «рассказчикам» можно отнести шведских военнопленных, подданных Карла XII, большая группа которых проживала в Тобольске [Савельева, 1984, с. 66]. Некоторые из этих людей получили образование в германском г. Халле и были учениками известного проповедника пиетизма Х. Эберхарда [Winter, 1962, S. 4]. Сходство мировоззренческих позиций сделало их более сплоченными в условиях сибирского плена. Выражением такого единства можно считать создание собственной гимназии, необходимость которой вполне понятна – шведская диаспора Тобольска составляла более 1 тыс. чел. (вместе с женами и детьми) [Главац- кая, Тольвардсен, 2015, с. 221]. Следует отметить, что это учебное заведение посещали не только шведские, но и русские дети.
Одним из членов тобольской общины был Филипп Иоганн Табберт фон Страленберг (1676–1747). Он участвовал в сражении под Полтавой, но попал в плен и был отправлен в Москву. Правда, по информации Мартина – старшего брата Ф.И. Страленберга, – сам будущий ученый рассказывал, что был пленен не под Полтавой. В письме Г.З. Байеру Мартин сообщил, что Филипп вместе с младшим братом, сопровождая после поражения Карла XII, бежал из-под Полтавы в Турцию. Вскоре он был послан с особым поручением в Валахию и по дороге в Сучаве попал в плен [Hoffman]. М.Г. Новлянская считает эту версию наиболее правдоподобной, т.к. она была записана со слов самого Ф.И. Страленберга; версия о пленении под Полтавой была внесена в «Родословную книгу шведского дворянства» («Schwedischen Adelsverzeichnis») в 1719 г. в его отсутствие [1966, с. 28]. После того, как в Москве стало известно о подготовке шведских военнопленных к побегу, ок. 9 тыс. пленников были отправлены из европейской части России в Сибирь. Среди них оказался Ф.И. Страленберг, летом 1711 г. он прибыл в Тобольск [Там же, с. 8].
Спустя семь лет после возвращения на родину исследователь опубликовал результаты своих изысканий в период пребывания в плену на территории Сибири [Strahlenberg, 1730]. Находясь в Тобольске, он при поддержке своих соотечественников периодически ненадолго выезжал за пределы Тобольска с целью сбора сведений, касающихся географии близлежащих территорий, а также истории и этнографии сибирских народов. Получить информацию не всегда было легко, т.к. для этого приходилось расспрашивать местных жителей, а они не слишком доверяли пленному иностранцу. Тем не менее, Ф.И. Страленбергу удалось составить несколько карт района Тобольска и всей Западной Сибири; часть из них, к сожалению, была утеряна [Борисенко, Худяков, 2005, с. 80]. По мнению Е. Винтера, активная картографическая деятельность военнопленных, скорее всего, была связана в какой-то степени с их желанием улучшить свои условия жизни, но в основном – с научным и просветительским интересом [Winter, 1962, S. 7]. Предположение автора о материальном мотиве базируется на том, что в рассматриваемое время географические карты стоили достаточно дорого [Грищев, 2007, с. 11], и Ф.И. Стра-ленберг не мог этого не знать. Первый экземпляр составленной им карты пропал во время пожара в Тобольске в 1715 г., второй был изъят М.П. Гагариным в 1717 г. и лишь третий, вероятно наиболее полный, был отправлен в Москву в 1718 г. Именно этот экземпляр карты предназначался для продажи английским купцам [Новлянская, 1966, с. 31], что косвенно под- тверждает версию о материальной заинтересованности как основы занятий картографией.
В настоящее время в российских архивах и библиотеках известно пять экземпляров карты Ф.И. Стра-ленберга [Грищев, 2007, с. 8]. Примечательно, что в период, когда его книга «Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia» публиковалась на разных языках, карта прилагалась не ко всем изданиям, например, ее нет в немецкоязычном. Однако в некоторых экземплярах она представлена в раскрашенном виде [Андреев, 1965, с. 42]. Вероятно, не все сведения, получившие отражение на карте, были собраны самим Ф.И. Страленбергом. Личное знакомство с С.У. Ремезовым, знание существовавших в то время европейских карт, на которых была указана Сибирь, помощь соотечественников в сборе материалов и, безусловно, собственные усердие и интерес – эти факторы определили содержание карты Ф.И. Страленберга, ставшей объектом активного интереса европейского общества [Грищев, 2007, с. 18].
К моменту знакомства с Д.Г. Мессершмидтом в 1721 г. у Ф.И. Страленберга уже был некоторый объем археологических и этнографических материалов, который он мог представить своему будущему начальнику и коллеге по экспедиции. Д.Г. Мессершмидту, хотя и с некоторыми трудностями, удалось добиться у сибирского генерал-губернатора князя А.М. Черкасского разрешения включить Ф.И. Страленберга в состав экспедиционного отряда.
1 марта 1721 г. экспедиция покинула Тобольск. Значительную часть маршрутов по Западной и Южной Сибири в течение этого года Д.Г. Мессершмидт и Ф.И. Страленберг прошли вместе, шведский офицер совершал отдельные поездки по заданию начальника экспедиции. Результаты научных изысканий каждого из них в этот период можно сопоставить, что очень важно для атрибуции упоминаемых в дневниковых записях Д.Г. Мессершмидта «куриозных» вещей.
Приобретение таких предметов было делом нелегким. Так, располагая информацией о том, что у нарымского воеводы имеется «изящный бронзовый идол, наполовину животное, наполовину человек», Ф.И. Страленберг неоднократно пытался осмотреть статуэтку и ссылался при этом на предписания, данные экспедиции по сбору древних вещей, но воевода отказывал ему: якобы желает сам отвезти вещь в Тобольск [Messerschmidt, 1962, S. 131–132]. Этот предмет – западноевропейский акваманил в виде полой скульптуры кентавра – позднее действительно был передан в Кунсткамеру. Он не сохранился до настоящего времени, вероятно, погиб во время пожара 1747 г. Однако имеется его прорисовка, которая позволила современным исследователям атрибутировать данное изделие средневековых западноевропейских мастеров [Борисенко, Худяков, 1999, с. 40].
Неудачной также была попытка Ф.И. Страленберга выкупить у томского коменданта страницы с молитвенными текстами из джунгарских ламаистских монастырей Верхнего Прииртышья, которых в начале XVIII в. было довольно много собрано участниками походов П. Ступина и И.М. Лихарева и позже доставлено Петру I [Борисенко, Худяков, 2009, с. 29; Кня-жецкая, 1989, с. 18–23].
Представляет интерес сообщение Ф.И. Стрален-берга от 19 апреля 1721 г. о «различных благородных татарских женщинах», которые проезжали по улицам одного из сибирских населенных пунктов «на лошадях с большой помпой и почетом. Они были одеты в зеленые и красные одежды, сидели на лошади прямо, как мужчины, держа в руках кнут, ехали медленным шагом. За ними следом ехали служанки» (см.: [Messerschmidt, 1962, S. 90]). Спустя 50 лет И.Г. Георги опубликует изображения татарских женщин различных родов в красочных костюмах. Казанская татарка и качинские женщины запечатлены в красной верхней одежде. Первая показана в распашной одежде с запахом на правую сторону. Качинские женщины – и замужние, и молодые девушки – изображены в халатах. Замужняя женщина представлена в халате с запахом на правую сторону, молодая девушка – в незастегнутом халате и штанах, более подходящих для «прямой» мужской посадки на лошади, которую отмечал Ф.И. Страленберг [Борисенко, 2012, с. 45].
В феврале 1722 г. участники экспедиции отправились в Красноярск. На берегу Енисея около с. Новосельцево экспедицией был обнаружен наскальный рисунок – выполненные красной краской фигуры человека и животного. Изображения находились на высоте примерно 4–5 локтей (180–230 см) [Messerschmidt, 1962, S. 181].
В окрестностях Юс-Бельтырских юрт было зафиксировано несколько «монументов» – каменных стел с письменными знаками и рисунками. Высота стел составляла ок. 170 см, ширина ок. 140 см, толщина ок. 35 см. Как предположили участники экспедиции, эти стелы были пограничными столбами для енисейских киргизов и китайцев. В качестве подтверждения Ф.И. Страленберг привел китайские записи, в которых говорилось, что китайская граница доходила до Енисея [Ibid., S. 298].
Во время экспедиции Ф.И. Страленберг и Д.Г. Мес-сершмидт смогли приобрести несколько предметов с надписями и отдельными письменными знаками. В книге Ф.И. Страленберга приведены некоторые из них – амулет и зеркало с арабскими надписями, которые были изучены и атрибутированы Г.Я. Кеером, одним из первых специалистов по восточной нумизматике в Европе, автором двухтомного каталога «куфических и джучидских» монет [Борисенко, Худяков, 2005, с. 82].
В ходе поездок в составе экспедиции Д.Г. Мес-сершмдита Ф.И. Страленбергом было зафиксировано и описано (впоследствии опубликовано) несколько каменных изваяний; сегодня их можно считать классическими для территорий, на которых они были установлены. К таким находкам можно отнести «Те-синского богатыря» – древнетюркское каменное изваяние мужчины с рунической надписью; оно было обнаружено в январе 1722 г. на р. Тесь и позже опубликовано Ф.И. Страленбергом [Strahlenberg, 1730, tab. XII]. «Тесинский богатырь» находился в центре могил, расположенных по окружности, и был обращен лицом на запад [Мессершмидт, 2012, с. 32]. Как было установлено И.В. Тункиной и Д.Г. Савиновым, «Тесинский богатырь» – единственное в Минусинской котловине каменное изваяние, выполненное в уйгурской традиции, которое может быть датировано VIII–IХ вв. [2017, с. 94].
Как упоминалось выше, Ф.И. Страленберг до встречи с Д.Г. Мессершмидтом уже имел некоторые сведения о древних памятниках, в частности об изваянии «Kosen-kis» – «Кролик-дева» в Минусинской степи. Изваяние было обнаружено в междуречье Черного и Белого Июсов на оз. Кара-куль. Оно очень почиталось местными кыргызами, которые считали фигуру женской и были крайне озабочены тем, что у нее отколота голова. Это изваяние известно также под названием «Кезен-кыс-таш»; считается, что в нем воплощен образ мужчины-воина с саблей и каптаргаком на поясе, сосудом в руке, редкой бородой и усами «на польский манер» [Messerschmidt, 1962, S. 159–160].
Заключение
Время участия Ф.И. Страленберга в исследовательской экспедиции Д.Г. Мессершмидта отмечено успехами – получена новая информация, приобретены артефакты, проведены раскопки. Однако после заключения Ништадского мира все пленные получили возможность покинуть Сибирь и вернуться на родину. Об этом Д.Г. Мессершмидт был извещен в начале 1722 г. Ф.И. Страленберг не сразу покинул своего коллегу, сопровождал его еще четыре месяца. Это характеризует его как преданного друга и истинного исследователя, которому была дорога совместная работа. В конце мая 1722 г. вместе с Карлом Шульманом, шведским пленным, художником экспедиции, Ф.И. Страленберг уехал в Москву, забрав с собой часть материалов и коллекций Д.Г. Мессершмидта для доставки в Санкт-Петербург [Мессершмидт, 2012, с. 72].
Через семь лет после возвращения на родину Ф.И. Страленберг издал книгу «Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia». В ней дана классификация археологических памятников: могилы, письмена, медальоны и обелиски [Strahlenberg, 1730, S. 360–362]. Могилы автор разделял на земляные, которые располагались цепочкой, имели оградки и земляную насыпь, а также на богатые и бедные, различавшиеся по составу погребального инвентаря. К медальонам исследователь относил все плоские предметы, большую часть которых составляли зеркала. К обелискам Ф.И. Страленберг причислял стелы и изваяния.
В своем труде Ф.И. Страленберг предложил интерпретацию некоторых предметов, высказал предположения о том, кому принадлежали различные письменные знаки и каковы были способы изготовления старинных изделий [Ibid., S. 362–363].
Ученый подчеркивал, что ни в одной стране мира нет таких редких духовных ценностей, как в Российском государстве, и можно лишь сокрушаться, что их изучение не было начато ранее [Ibid., S. 312].
За 11-летний период пребывания в Сибири Ф.И. Страленбергом были проведены исследования, касающиеся разных научных дисциплин. Некоторые собранные им материалы актуальны и для современной науки. Безусловно, оценивать их следует с учетом уровня знаний и методологических подходов начала XVIII в. Но многое из того, что было собрано Ф.И. Страленбергом 300 лет назад, и сегодня представляет интерес для исследователей истории науки, археологии, этнографии, языкознания.
Создание Российской академии наук в 1724 г. существенным образом повлияло на организационные возможности научного изучения Сибири, ее природных ресурсов, традиционных и древних культур. Благодаря консолидирующей роли Академии наук именно экспедиции на долгие годы стали основной формой в организации изучения новых территорий. Именно в ходе экспедиций происходили открытие новых археологических объектов, сбор и накопление нового материала, что создавало вещественную и информационную источниковую базу для дальнейших исследований памятников древности и традиционной культуры народов Сибири.
Исследование выполнено по проекту «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи» (FWZG-2022-0006).
Список литературы Филипп Иоганн Табберт фон Страленберг: научные изыскания шведского военнопленного в Сибири
- Алексеев М.П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и писателей. – Иркутск: Крайгиз, 1932. – 462 с.
- Алексеева Е.В. Европейский вклад в становление и развитие российской науки (XVIII–XIX вв.) // Вестн. ДВО РАН. – 2007. – № 3. – С. 127–136.
- Андреев А.И. Очерки по источниковедению Сибири. – М.; Л.: Наука, 1965. – Вып. 2. – 363 с.
- Арсланова П.Х. Курганы с трупосожжением в Верхнем Прииртышье // Материалы и исследования по археологии Казахстана. – Астана: Ин-т археологии им. А.Х. Маргулана, 2013. – С. 205–223.
- Байтилеу Д.А. К истории изучения наскальных изображений Казахстана (по материалам XVIII–XIX вв.) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. – Т. X, ч. 1. – С. 180–184.
- Белокобыльский Ю.Г. Бронзовый и ранний железный век Южной Сибири. – Новосибирск: Наука, 1986. – 167 с.
- Бондарь Л.Д. Лингвистические экспедиции Императорской Петербургской академии наук в Сибирь в XVIII–XIX вв.: вклад в становление отечественного языкознания в области языков сибирских народов // Учен. зап. Санкт-Петербург. ун-та управления и экономики. – 2016. – № 1 (53). – С. 23–34.
- Борисенко А.Ю. Археологическое изучение Южной Сибири немецкими учеными XVIII–XIX вв.: дис. … канд. ист. наук. – Новосибирск, 2000. – 251 с.
- Борисенко А.Ю. Немецкие исследователи XVIII века о военном деле и военных столкновениях енисейских кыргызов с русскими в позднем средневековье // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2007. – Т. 6. – Вып. 7: Археология и этнография. – С. 58–62.
- Борисенко А.Ю. Сведения о традиционной культуре татарского населения и археологических памятниках Барабинской лесостепи в дневниковых записках Д.Г. Мессершмидта // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2011. – Т. 10. – Вып. 3: Археология и этнография. – С. 69–74.
- Борисенко А.Ю. Изучение «татарских древностей» Д.Г. Мессершмидтом и Ф.И. Таббертом на пути от Тобольска до Абаканска (по материалам полевого дневника Д.Г. Мессершмидта за 1721 год) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2012. – Т. 11. – Вып. 3: Археология и этнография. – С. 42–49.
- Борисенко А.Ю. Сведения о древних и традиционных культурах, собранные европейскими учеными и путешественниками XVIII века на территории Обь-Иртышского междуречья // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2014а. – Т. 13. – Вып. 5: Археология и этнография. – С. 43–51.
- Борисенко А.Ю. История археологических исследований в Южной Сибири и Центральной Азии: учеб. пособие. – Новосибирск: РИЦ НГУ, 2014б. – Ч. 1. – 80 с.
- Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Находки западноевропейских бронзовых водолеев XII–XV вв. на территории Западной Сибири // Немецкий этнос в Сибири: Альманах гуманитарных исследований. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 1999. – Вып. 1. – С. 38–44.
- Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Изучение древностей Южной Сибири немецкими учеными XVIII–XIX вв. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2005. – 270 с.
- Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Предметы западноевропейской и ламаистской торевтики в составе Аблайкитской коллекции: к истории изучения // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2009. – Т. 8. – Вып. 5: Археология и этнография. – С. 28–35.
- Буровский А.М. Экспедиции Петербургской академии наук в XVIII веке. Столкновение культур // Немцы в Сибири: история, язык, культура: мат-лы Междунар. конф. – Красноярск, 2005. – С. 15–21.
- Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. – Л.: Наука, 1986. – 179 с.
- Главацкая Е., Торвальдсен Г. Сибирский Вавилон: шведские узники в начале XVIII в. // Quaestio Rossica. – 2015. – № 4. – С. 215–240.
- Грищев В.А. Карта Сибири Филиппа Иоганна фон Страленберга // Краеведческие записки. – Иркутск: Изд-во Ин-та географии СО РАН им. В.Б. Сочавы, 2007. – Вып. 14. – С. 4–19.
- Демин М.А. Первооткрыватели древностей. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1989. – 120 с.
- Евтюхова Л.А. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов). – Абакан: ХакНИИЯЛИ, 1948. – 109 с.
- Кардаева М.Б. История изучения Томской писаницы // Историко-культурное наследие Северной Азии: Итоги и перспективы изучения на рубеже тысячелетий: мат-лы XLI Регион. археол.-этногр. студ. конф. – Барнаул, 2001. – С. 430–432.
- Катанов Н.Ф. Швед Филипп Иоганн Страленберг и труды его о России и Сибири // Изв. Об-ва археологии, истории и этнографии Казанского университета. – Казань, 1903. – Т. XIX. – С. 170–174.
- Китова Л.Ю. История археологии Сибири: идеи и исследования (XVII в. – середина XX в.). – Кемерово: Кем. гос. ун-т, 2014. – 228 с.
- Княжецкая Е.А. Новые сведения об экспедиции И.М. Лихарева (1719–1720) // Страны и народы Востока. – М.: Гл. ред. вост. лит., 1989. – Вып. XXVI. – С. 10–35.
- Кулемзин А.М. История изучения археологических памятников Кемеровской области // Археология Южной Сибири. – Кемерово: Кем. гос. ун-т, 1985. – С. 107–115.
- Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники Кемеровской области. – Кемерово: Кем. кн. изд-во, 1985. – 157 с.
- Курочкин Г.Н. Большая охота за сибирским «могильным золотом» // Санкт-Петербург и отечественная археология: Историографические очерки. – СПб.: СПб. гос. ун-т, 1999. – С. 9–17. – (Тр. семинара «Проблемы истории и историографии археологической науки»).
- Макарова Н.Н. Шведские военнопленные на Урале в первой четверти XVIII в. // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2013. – № 1 (39). – С. 122–129.
- Малышева М.П., Познанский В.С. Жизнь, отданная освоению Сибири // Немецкий этнос в Сибири: Альманах гуманитарных исследований. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2000. – Вып. 2. – С. 107–117.
- Мартин Ф.Р. Сибирика. Некоторые сведения о первобытной истории и культуре сибирских народов / под ред. А.Я. Труфанова. – Екатеринбург; Сургут: Урал. рабочий, 2004. – 144 с.
- Мессершмидт Д.Г. Дневники. Томск – Абакан – Красноярск. 1721–1722. – Абакан: Мин-во культуры Республики Хакасия, 2012. – 160 с.
- Новлянская М.Г. Филипп Иоганн Страленберг: его работы по исследованию Сибири. – М.; Л.: Наука, 1966. – 95 с.
- Радлов В.В. Сибирские древности. – СПб.: Изд. Имп. Археол. комиссии, 1891. – Т. 1, вып. 2. – [4], 49–80, [2], 21–52 с. [8] л. цв. ил.: ил. – (Мат-лы по археологии России).
- Савельева Е.А. «Северная и Восточная часть Европы и Азии» Ф.И. Страленберга и ее русские переводы в XVIII в. // Книга и книготорговля в России в XVI–XVIII вв. – Л.: Библиотека АН СССР, 1984. – С. 65–79.
- Страленберг Ф.И. Записки капитана Филиппа Иоганна Страленберга об истории и географии Российской империи Петра Великого: Северная и восточная часть Европы и Азии. – М.; Л.: АН СССР, 1985. – Т. 1. – 220 с.; 1986. – Т. 2. – 444 с.
- Тункина И.В. Археология Сибири в документах Д.Г. Мессершмидта // Вестн. РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. – 2019. – № 3. – С. 45–61.
- Тункина И.В., Савинов Д.Г. Даниэль Готлиб Мессершмидт: у истоков сибирской археологии. – СПб.: ЭлекСис, 2017. – 166 с.
- Эрлих В.А. Изучение Красноярского края российскими немцами и научная книга Сибири и Дальнего Востока. Дореволюционный период // Немцы в Сибири: история, язык, культура: мат-лы Междунар. науч. конф. – Красноярск, 2005. – С. 142–147.
- Hoffman P. Deutsche Biographie. Strahlenberg (bis 1707/1723 Tabbert) Philipp Johan. – URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd100632025.html (дата обращения: 29.03.2022).
- Messerschmidt D.G. Forschungsreise durch Sibirien 1720–1727. – B.: Akademie-Verlag, 1962. – T. 1. – 379 S.
- Schiltberger J. The bondage and travels of Johann Schiltberger, a native of Bavaria, in Europe, Asia and Africa, 1369–1427. – L., 1879. – 263 p.
- Strahlenberg P.J., von. Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia. – Stokholm: in Verlagung des Autoris, 1730. – 512 s.
- Strahlenberg P.J., von. Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia / introd. by J.R. Kreuger. – Scedet, 1975. – 512 s.
- Winter E. Einleitung // Messerschmidt D.G. Forschungsreise durch Sibirien. 1720–1727. – B.: Akademie-Verlag, 1962. – T. 1. – S. 1–20.