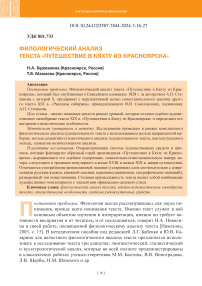Филологический анализ текста "Путешествие в Кяхту из Красноярска"
Автор: Бурмакина Н.А., Мамаева Т.В.
Журнал: Сибирский филологический форум @sibfil
Рубрика: Актуальные вопросы языкознания
Статья в выпуске: 3 (28), 2024 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. Филологический анализ текста «Путешествие в Кяхту из Красноярска», который был опубликован в Енисейском альманахе 1828 г. за авторством А.П. Степанова с литерой S, предпринят с перспективной целью сопоставительного анализа другого текста XIX в. «Рассказы сибиряка», принадлежавшего В.И. Соколовскому, племяннику А.П. Степанова. Цель статьи - анализ языковых средств разных уровней, которые создают идейно-художественное своеобразие текста XIX в. «Путешествие в Кяхту из Красноярска» и определяют его авторские стилистические особенности. Методология (материалы и методы). Исследование проведено в рамках комплексного филологического анализа художественного текста с использованием метода направленной выборки, метода семантико-стилистического анализа художественного текста, контекстуального метода, элементов количественного анализа. Результаты исследования. Охарактеризована система художественных средств и приемов, которые формируют образный строй произведения «Путешествие в Кяхту из Красноярска», выражающего его идейное содержание, описательно-повествовательную манеру автора, следующего в традиции популярного в конце XVIII и начале XIX в. жанра путешествия. Отмечаются употребление разноплановой лексики (устаревших слов соотносительно с современным русским языком, книжной лексики, церковнославянизмов, географических названий), размеренный тон повествования. Стилевая принадлежность текста являет собой комбинацию художественно-эпистолярного с элементами официально-делового стиля.
Филологический анализ текста, идейно-художественное своеобразие текста, стилистические особенности, система художественных средств
Короткий адрес: https://sciup.org/144163220
IDR: 144163220 | УДК: 801.733 | DOI: 10.24412/2587-7844-2024-3-16-27
Текст научной статьи Филологический анализ текста "Путешествие в Кяхту из Красноярска"
остановка проблемы. Филология всегда рассматривалась как наука понимания, прежде всего понимания текста. Именно текст служит в ней основным объектом изучения и интерпретации, именно он требует активности восприятия и от читателя, и от исследователя, говорит Н.А. Николина в своей работе, посвященной филологическому анализу текста [Николина, 2003, с. 15]. В методическом пособии под редакцией Л.Г. Бабенко и Ю.В. Казарина для целостного филологического анализа текста предлагается использовать в исследовании текста три единства: лингвистический, стилистический и культурологический анализ, которые во всей полноте продемонстрированы в классических работах ученых-теоретиков М.М. Бахтина, В.В. Виноградова, Л.В. Щербы, Н.М. Шанского и др.
Сложность структурной, семантической и коммуникативной организации текста, его соотнесенность как компонента литературно-эстетической коммуникации с автором, читателем, обусловленность действительностью и знаковый характер являются причиной множественности подходов к его изучению. Л.Г. Бабенко предлагает выделить следующие подходы к изучению текста:
-
1) лингвоцентрический (аспект соотнесения «язык – текст»);
-
2) текстоцентрический (текст как автономное структурно-смысловое целое вне соотнесенности с участниками литературной коммуникации);
-
3) антропоцентрический (аспект соотнесенности «автор – текст – читатель»).
-
4) когнитивный (аспект соотнесенности «автор – текст – внетекстовая деятельность») [Бабенко, Казарин, 2004].
В исследовании мы ориентируемся на лингвоцентрический подход. Его логика основана на изучении функционирования языковых единиц и категорий в условиях художественного текста. Предметом рассмотрения при таком подходе могли быть как лексические, так и фонетические, грамматические, стилистические единицы и категории. Предметом лингвистического анализа художественного текста является его языковая организация: связи и отношения языковых единиц на разных уровнях, выражающих определенное идейно-художественное содержание произведения. Лингвистический анализ художественного текста предполагает изучение его языковой организации в соотнесенности с содержательным планом текста [Щерба, 1957]. Выполняя филологический анализ, мы учитываем стилистические подходы Н.М. Кожиной [Кожина, 1983] и ориентируемся на триединство (лингвистический, стилистический и литературоведческий анализ), выделенное Н.С. Болотновой [Болотнова, 2009], в основе такой точки зрения стоят аналитические разработки Н.М. Шанского [Шанский, Махмудов, 1999].
«Путешествие в Кяхту из Красноярска» впервые было опубликовано в «Енисейском альманахе на 1828 год», в подготовке которого А.П. Степанов принимал непосредственное участие. Намечена дискуссия относительно авторства «Путешествия в Кяхту из Красноярска»: утверждено, что письма принадлежат первому Красноярскому губернатору А.П. Степанову, однако есть гипотеза, что эти письма – творение молодого поэта (племянника губернатора) В.И. Соколовского. При работе над нехудожественными текстами В.И. Соколовского обнаружена характерная особенность этого автора, а именно литера S, которой автор помечал свои документы. Вся трудность заключается в том, что фактически исторического подтверждения прав того или иного деятеля не сохранилось, поэтому мы предпринимаем попытку начать последовательно проводить филологический анализ каждого текста.
Анализ текста проводится по следующему изданию: S. Путешествие в Кяхту из Красноярска / А.П. Степанов // Енисейский альманах на 1828 год Ивана Петрова. Красноярск [на обороте тит. л.: М.: Типография С. Селивановского, 1828]. С. 1–98 пер. сч.
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 3 (28)

Особое внимание стоит уделить графике и фонетике представленных писем. Как говорилось ранее, «Путешествие в Кяхту из Красноярска» было опубликовано в 1828 г., дореформенное написание мы можем проследить в свидетельствующих словоформах прилагательных в форме родительного падежа с безударным последним слогом: расположенн ыя ; рогат аго ; прекраснейш ия ; подбеленн ыя ; светл ыя ; чист ыя ; прекрасн аго ; освещенн аго ; больш аго ; местн аго ; различн ыя ; аукционн аго ; Высокомонарш аго ; всяк ия ; необходим ыя ; обширн аго ; фабричн ыя ; особенн аго ; суконн аго ; каменн ыя ; надлежащ аго ; бел аго ; надлежащ аго ; зер-кальн аго ; фламск аго ; обширн ыя ; практическ ия ; главн аго ; прекрасн аго ; обще-ственн ыя ; цел аго ; крупн аго ; покрыт ыя ; почтов аго ; окружающ ия ; приятней-ш ия ; особенн ыя ; похож ия ; Русск аго ; богат аго ; всяк аго ; торгов ыя ; Китайс аго ; солдатск ия ; застроенн ыя ; определительн ыя ; торгов ыя ; обоюдн ыя ; ровн ыя ; внутренн яго ; чёрн аго ; серебрен ой таз; зелён аго ; фаршированн ыя ; кирпичн аго ; шёлков ыя ; прелестн ыя ; похож аго ; союзн аго ; бронзов ыя ; малейш аго ; слаб аго ; бумажн ыя ; аллегорическ аго ; рисовальн аго ; Аполлона Дельфийск аго ; священ-н ыя ; довременн аго ; чудесн ыя ; властительн аго ; красн ыя ; велик ия ; тускл ыя ; бе-л ыя ; толст ыя ; мал ыя ; лит ыя ; сарачинск аго пшена; человеческ аго ; бе з числен-н ыя ; гусин аго, – общее количество которых составляет 82 единицы.
Большинство устаревших местоимений, таких как: сей; оный; ея; оного; коих; кой, носит подчеркнуто книжный характер, и обращение к ним стилистически мотивировано.
С точки зрения грамматики наше внимание привлекает числовое соотношение лексики, а именно приоритетная роль именной лексики. Глагольные словоформы (количеством 772 единицы), их числовое соотношение наименьшее, указывают на достаточно динамическое развитие событий и смены обстановки. Существительные (2595 единиц) и прилагательные (899 лексических единиц) доминируют в тексте, определяя его размеренную тональность.
«Путешествие в Кяхту из Красноярска» написано в эпистолярном жанре в форме трех писем, адресованных писателем к другу, имя которого на протяжении всего текста так и не встречается:
Не смотря на то, любезный друг , что деревни, расположенныя на большой дороге в Восточной Сибири, довольно велики, опрятны и даже не в дальнем раз-стоянии одна от другой, так, что между почтовыми станциями можно встретить две и три; не смотря на то, что видишь в обширных выгонах большие табуны лошадей и стада рогатаго скота; что жители имеют прекраснейшия избы, всегда подбеленныя, светлыя и чистыя, что житницы их всегда наполнены хлебом – не знаю, все как-то здесь отзывается пустынею (S, с. 1).
В первом письме автор в виде путевых заметок повествует обо всем увиденном в мельчайших подробностях по пути в Кяхту. В частности, о быте небольших промышленных сибирских городков, суровости климата и устройстве фабрик:
Капитал Тельминской фабрики заключается в 434, 194 рублях. Всё производство ея обеспечивается со стороны важных для нея материалов следующим образом: кочующие в Иркутском, Верхнеудинском и Нерчинском округах и на острове Ольхоне, Буряты и Тунгусы, доставляют в изобильном количестве шерсть (S, с. 5).
Люди сии довольствуются безденежно от фабрики, на счёт выделываемых сукон, провиантом. Жалования за работу получают от 60 до 500 рублей в течение 10 работных месяцов. Женщины выработывают от 2 ½ до 3 рублей в месяц. Г. Платонов построил шерстомойный двор, каменное помещение для расправки в зимнее время сукон, помещение для зеркальнаго производства, помещение для беления пряжи и выделки фламскаго полотна и магазин для хранения пеньки (S, с. 5).
Второе письмо повествует о китайской культуре, правителях и частично о восточной кухне. В третьем письме говорится о возвращении автора в Сибирь через Бурятию, где упоминается устройство молитвенного алтаря буддистов:
…В 40 верстах от Селенгинска, за хребтом гор, в степи безлесной на берегу озера Гусинаго… церковь с деревянными четвероугольными столбами, между которыми от однаго до другаго протянуты скамьи, на помосте разбросаны подушки и тюки для молельщиков. Между срединою и святилищем, которое отделено завесою, стоит престол со свечами и курильницами… (S, с. 90).
Позиция автора выражена отчетливо в комбинации таких функционально смысловых типов речи, как описание, повествование.
На лексическом уровне весьма показательно соединение лексических средств разной эмоционально-стилистической окраски, значимых для утверждения идеи текста: приятной музыки, искусной живописи , (S, с. 1); человек умный , ревностный – книжн. (S, с. 2); совершенной пользе (S, с. 3); чистой отделке (S, с. 4); неутомимые труды, любезный друг (S, с. 5); отличная чистота, прекрасного бульвара (см. приложение III, с. 6); неутихаемые ветры (S, с. 8); худшие , лучшие , пленительный свет (S, с. 17); будущую судьбу (S, с. 20); добрые приятели (S, с. 21), – 16 единиц. Эмоционально окрашенная лексика, выбранная автором, задает положительный тон письмам: пленительный свет и неутихае-мые ветры . Метафоричность языка выступает как один из способов выражения оценки происходящего: всё как-то здесь отзывается пустынею ; Не смотря на то, любезный друг, что деревни, расположенныя на большой дороге в Восточной Сибири, довольно велики, опрятны и даже не в дальнем разстоянии одна от другой, так, что между почтовыми станциями можно встретить две и три; не смотря на то, что видишь в обширных выгонах большие табуны лошадей и стада рогатаго скота; что жители имеют прекраснейшия избы, всегда под-беленныя, светлыя и чистыя, что житницы их всегда наполнены хлебом – не знаю , всё как-то здесь отзывается пустынею » (S, с. 1–2).
Устаревшей лексики в данном тексте встречается сравнительно немного, а именно: житница , распря , горница, жирондоль, верста , аршин, лик, слабодка, лохань ; церковных слов – стихарь ; иноязычных – кафтан, фуза, Абулгази, Цинь-ван-дао, Шаге-Муни .
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 3 (28)
Таким образом, все лексические средства, выбранные автором, носят описательный характер и свидетельствуют об умелом использовании их, в тексте не встречается разговорная или просторечная лексика.
С точки зрения синтаксиса интересна организация текста как законченного смыслового целого, выражающегося за счет различных средств языка: лексических – употребление личных местоимений, местоименных наречий ( затем, потом, тогда , выполняющих функцию скрепления элементов предложения), морфологических (соотношение видовременных форм глаголов-сказуемых в объединяемых предложениях).
Художественно-эпистолярный стиль проявляет себя элементами официально-делового, представляющего точность, сжатость и однозначность предоставления фактов о производстве, рабочей силе и последовательности совершаемых финансовых операций: На реке Тельме был некогда железной завод; опустел и разрушился. Купец Бобровский в 1751 году, сделавшись владельцем сего места, построил маленькую суконную фабрику, которая от него перешла к купцу Сибирякову; но за долги его была в 1793 году продана с аукционнаго торга и куплена в ведение Иркутскаго Коммисариата за 10 тысячь рублей . В то время фабрика производила в год от 4 до 9 тысячь аршин сукна, посредством 87 приписных душ (S, с. 6); Тканье производится на 57 самолетных и на 11 простых двуручных станах . Из выделываемых 62 тысяч аршин сукна 50 тысяч доставляются (S, с. 14).
Рабочих людей по единоделению употребляется:
Взрослых… 257
Мальчиков… 57
всего 314 муж. пола (S, с. 15).
«Путешествие» вызвает у читателя ответную лирическую эмоцию, эстетическое чувство сопричастности путешествию. Текст отражает воплощенные в словесно-художественной форме характеристики и оценки описываемой действительности. Письма адресованы обобщенно-личному субъекту. Художественно-образная конкретизация эмоционального состояния «лирического героя» выражается за счет эмотивной лексики: приятность (S, с. 3); веселыми кликами (S, с. 4); ревностный (S, с. 6); удивление (S, с. 12); страшные (S, с. 19); спокойствие (S, с. 22); дружелюбие (S, с. 34); дружелюбие охладело (S, с. 34); люблю (S, с. 48).
Текст отражает динамику чувств: часто восхищение или удивление героя, используется этикетное обращение к любезному другу : Признаться, любезный друг, приятно быть обманутым, как я обманулся на счёт всех заведений здешняго края; приятно за 6 тысяч вёрст от столицы, в Восточной Сибири встретить не только колыбель промышленности, но и такую степень ея совершенства, которая со всею вероятностию заставляет надеяться в скором времени увидеть её на ряду с тою, которая существует в средоточии Государства (S, с. 5). Организация текста проникнута уважением и восхищением перед отдельными лицами, о которых повествуется в письмах.
«Путешествие» оказывает сильное эстетическое воздействие на адресата, вызывая ответную лирическую эмоцию: Часто случается слыхать в разговорах и читать в книгах о знаменитом фарфоре Китайском: однако же я не видал ни одной вещи, в которой бы глина была чище Саксонской. О рисовке не чего и говорить: она мила по своей странности; относительно же колеров, столь превозносимых – право не знаю – а кажется, наши лучше. Формы не имеют никакой правильности новых времён и изящества древних Греков и Римлян; кажется всё выкопано не из Геруклана, а из Чудских могил Енисейской… (S, с. 63).
Характер адресата связан с обращением к некому другу, обладающему необходимым уровнем духовной и языковой культуры, способному понять данное послание: Итак скажешь ты мне: твоё путешествие было приятно. …Останови-тесь, прошу вас; позвольте не думать о будущем и дайте наперёд образумиться от настоящаго путешествия… (S, с. 97–98);
В правом приделе на возвышении сидит Хо-шень, дух огня: лицо и руки крас-ныя; одет бронёю, в правой руке мечь, в левой сосуд с огнём. Рядом с ним Ню-ван, князь и покровитель скотоводства, поддерживает конец бороды правою рукою, в левой Жуи. В правом приделе перед сими кумирами поставлены столы для жертвоприношений, и возле каждаго кумира находится резное изображение фигуры предстоящей (S, с. 79–80).
Письменная форма речи представляет собой индуктивное повествование с выводами в конце каждого письма: Признаться, любезный друг, приятно быть обманутым, как я обманулся на счёт всех заведений здешняго края; приятно за 6 тысяч вёрст от столицы, в Восточной Сибири встретить не только колыбель промышленности, но и такую степень ея совершенства, которая со всею веро-ятностию заставляет надеяться в скором времени увидеть её на ряду с тою, которая существует в средоточии Государства (S, с. 20) – письмо первое.
После обеда мне хотелось-было побродить по лавкам или фузам; но устал и поздно. Прощай, мой друг, до будущей почты (S, с. 55) – письмо второе.
Стилевые черты монолога лирического героя отражают:
-
а) образность, способность создавать представления о реалиях современного мира той эпохи: …а также растение называемое по Китайски в переводе благословенная ручка. Его не едят: но только от времени до времени берут в руки и нюхают, услаждая тем своё обоняние: запах сходен с лимонным (S, с. 46);
-
б) эстетически направленную экспрессивность, обусловленную системой изобразительно-выразительных средств, обозначающих нравственно-этические понятия: дума, красота, польза, усердие, совершенство, мечта, жизнь , называющие движение природы: снежные берега, река даже не струится, вершины венчались лиственницами, белели покрытые снегом горы ;
-
в) эмоциональность (употребление книжных средств и эмоционально-оценочной лексики): приятной музыки, искусной живописи, здание великолепное, приятную наружность, великолепное селение, правильной улицы, величайшие залы, веселыми кликами (S, с. 1); человек умный, ревностный (S, с. 2); совершенной
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 3 (28)
пользе (S, с. 3); чистой отделке (S, с. 4); неутомимые труды, белый песок, любезный друг (S, с. 5); отличная чистота, прекрасного бульвара (S, с. 6); неутомимые (S, с. 7); неутихаемые ветры (S, с. 8); высокое подножие, худшие, лучшие, пленительный свет (S, с. 17); будущую судьбу (S, с. 20); добрые приятели (S, с. 21) – отражает высокую идейную направленность путешествия и его взволнованную эмоциональную тональность;
-
г) многостильность окраски языковых средств (наряду с нейтральными словами в тексте используется стилистически маркированная, как уже отмечалось).
Среди языковых примет стиля частотны используемые:
– олицетворения: вершины венчались лиственницами (S, с. 24); подножие опуталось розовыми цветами крупнаго багульника (S, с. 24); белели покрытыя снегом горы (S, с. 25); …луч его блеснул через высоты и распростёрся мгновенно по гладкой поверхности Байкала, тогда – тогда, любезный друг, запылали все предметы меня окружающие, небо, горы и вода! (S, с. 25–26);
– эпитеты: лазурная, жемчужная, пушистые снега, рубиновая поверхность, парчовые наметы, берилловые кристаллы льдин, радужный перламутр ;
– риторические вопросы: Мне хотелось видеть храм языческий – нечто, может быть, подобное знаменитым храмам древности, ежели не по великолепию (ибо где его искать в маленьком торговом городке), то по крайней мере по религиозным установлениям. Не озарит ли что-нибудь понятия моего о жертвеннике Юпитера Аммона или Аполлона Дельфийскаго? (S, с. 70); Ваша Религия допускает ли существование Бога брани, Бога мира, бога ада и моря? (S, с. 72); Что делать? любезный друг (S, с. 89).
Все это служит средством эмоционального и смыслового усиления индивидуального эстетического видения мира автора, позволяет читателю приобщиться к нему.
Образ автора автобиографичен, целью текстовой деятельности является рассказ о путешествии, жанр которого был весьма популярен в конце XVIII в. Автор-повествователь проявляет себя как путешественник-сентименталист.
Как говорилось ранее, «Путешествие в Кяхту из Красноярска» опубликовано в «Енисейском альманахе на 1828 год», авторство которого поставлено под сомнение. Путевые заметки писателя о поездке из Сибири в Кяхту приходятся на 1828 г. В «Путешествии в Кяхту из Красноярска» мы наблюдаем неподдельный интерес писателя к восточной культуре, жизненному укладу и философии буддизма. Все это красочно и подробно описывается в письмах к любезному другу. Для анализируемого эпического текста характерны описательность, психологизм, номинативность, прозаическая организация речи, монологизм.
Произведение относится к жанру путешествия , расцвет и популярность которого приходился на конец XVII – начало XIX в. На смену классицистической школы в этот период приходит сентиментализм как литературное направление. Первые работы в жанре путешествия: «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина, «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева, «Путешествие в Арзрум» А.С. Пушкина.
Социокультурный тип проблематики текста, пейзажные зарисовки с естественной последовательностью фактов, выраженный сентиментальный пафос позволяют говорить о некой умиленности и витиеватости слога: Рубиновая поверхность восточнаго хребта предваряла уже о скором появлении солнца; но когда первый луч его блеснул через высоты и распростёрся мгновенно по гладкой поверхности Байкала, тогда – тогда, любезный друг, запылали все предметы меня окружающие, небо, горы и вода! Ежели бы я был живописец, или твой любимый Пушкин, то, может быть, имел бы силы сообщить понятие о том явлении, которое мгновенно озарило меня, о парчовых наметах покрывающих горы, о берилловых кристаллах льдин, разбросанных колоссальными штуфами по трещинам озера; о том радужном перламутре, который покрывал всю поверхность Байкала; но я не в состоянии в сём случае совершенно удовлетворить тебя; скажу только, что в два с половиною часа перелетел 60 вёрст через озеро, что быстрые неутомимые кони с маху перескакивали трещины, где струилась вода, шириною в полтора аршина, и доставили наконец меня невредимо в Посольский монастырь – первую станцию по ту сторону Байкала (S, с. 26–27).
Общая эмоциональная тональность произведения жизнеутверждающая, окрашенная восторженными отзывами автора, с выраженными образами восточных скульптур: В левом пределе от входа на возвышении сидят два разных кумира: Цей-шень, Дух счастья, с чёрною бородою и усами до пояса; он держит в руках кубак/н или Жуи. Другой Ма-ван, князь или покровитель коней; он изображён с шестью руками: две обыкновенныя вооружены луком и стрелою, так, что левою придерживает лук лежащий на левом колене, а правою упирает острие стрелы на лук; две поднятые к верху из-за плечей держат крестообразно мечи над головою; и наконец в одной из двух, выходящих от крестца и распростёртых в обе стороны находится печать (знак властительнаго достоинства); а другой зеркало. – Кротость изображается на лице духа, и ярость на лице покровителя коней; первый в мирной одежде, а другой в воинственной (S, с. 78–79).
Или: Го-ан-ди, в честь котораго воздвигнут храм, был человек, оказавший великия услуги отечеству и подвергшийся во время жизни своей великим несчастиям. Он сидит на престоле, облечённый в голубую одежду; лице имеет золотое; в руках держит Жуи, на который с благоговением вперены взоры его: – сим изображаются обеты, приносимые Богу. У ног его фиал со святою водою; восемь знаков изображающих достоинство жертв; четыре подсвечника, четыре чаши и неугасимый светильник (анн), который во тьме освещает изображение Го-ан-ди и двух ужасной велечины Драконов, извивающихся по разным направлениям снизу в верх и составляющих своды над кумирами. Тусклыя зеркала, распо-ложенныя на высоте, отражая лучь сего светильника, мелькают подобно слабому свету зари восточной между вершинами гор, покрытых мраком (S, с. 80–81).
Художественные особенности путешествия определяются его идейно-тематическим своеобразием, намерением поведать о культурной организации другого государства с его особенным бытом и укладом.
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 3 (28)
Таким образом, система ярких художественных средств и приемов формирует образный строй произведения, выражающий его идейное содержание. Предприняв попытку проведения филологического анализа текста «Путешествие в Кяхту из Красноярска», мы заметили характерные особенности писателя – употребление разноплановой лексики (устаревших слов, соотносительно с современным русским языком, книжной лексики, церковных слов, географических названий). Приоритетное употребление именной лексики (2595 единиц существительных) и прилагательных (899 лексических единиц) задают размеренный тон повествованию. С фонетической точки зрения наше внимание привлекают словоформы прилагательных с характерным безударным окончанием: средн яго , главн аго , велик ия , человеческ аго »; местоимения третьего лица: оный, оная. Такое употребление лексики в письменной речи весьма характерно для конца XVIII – начала XIX в. С точки зрения грамматики наличие экспрессивных синтаксических конструкций, метафоричность языка вырисовывают описательно-повествовательную манеру автора. С точки зрения стилевой принадлежности «Путешествие в Кяхту из Красноярска» являет собой достаточно сложную конструкцию – художественно-эпистолярный жанр с элементами официально-делового стиля. Кроме того, мы отмечаем характерную особенность – использование жанра «путешествия». популярного в художественной литературе конца XVIII – конца XIX в., корни которого восходят к произведению Лоренса Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (1768). В нашей стране к этому жанру принято относить произведения: «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина (записки в форме писем к друзьям) (1797). В основу писем положено реальное путешествие, которое Н.М. Карамзин совершил в 1789–1790 гг.; «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева; «Путешествие в Арзрум» А.С. Пушкина (1829). Отличие «Путешествия в Кяхту из Красноярска» заключается в обращении автора к Востоку, его буддийской философии, культуре бытия монахов, описанию культурных особенностей восточных людей, тем самым проявляется интерес к этой культуре, произведение выделяется из общего фона текстов, посвященных жанру путешествия.
Список литературы Филологический анализ текста "Путешествие в Кяхту из Красноярска"
- S. Путешествие в Кяхту из Красноярска / А.П. Степанов // Енисейский альманах на 1828 год Ивана Петрова. Красноярск. М.: Типография С. Селивановского, 1828. С. 1-98 пер. сч.
- Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика. 2-е изд. М.: Флинта, Наука, 2004. 496 с.
- Болотнова Н.С. Филологический анализ текста: учеб. пособие. 4-е изд. М.: Флинта, Наука, 2009. 520 с. EDN: UTYECP
- Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М.: Просвещение, 1983. 223 с.
- Николина Н.А. Филологический анализ текста. М.: Академия, 2003. 256 с.
- Шанский Н.М., Махмудов Ш.А. Лингвистический анализ художественного текста. СПб.: Спец лит., 1999. 319 с.
- Щерба Л.В. Избранные труды по русскому языку. М.: Гос. уч. пед. изд-во Мин-ва просв. РСФСР, 1957. 582 с.