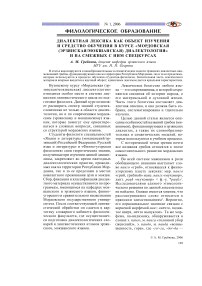Филологическое образование диалектная лексика как объект изучения и средство обучения в курсе «Мордовская (эрзянская/мокшанская) диалектология» и на смежных с ним спецкурсах
Автор: Гребнева А.М.
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Филологическое образование
Статья в выпуске: 1 (42), 2006 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются словообразовательные и семантические модели эрзянских диалектных наименований грибов, функционирующих как на территории Республики Мордовия, так и за ее пределами, которые используются в процессе обучения студентов-филологов. Значительная часть лексического материала впервые вводится в научный оборот; единичным лексемам дается ареальная характеристика.
Короткий адрес: https://sciup.org/147136118
IDR: 147136118
Текст научной статьи Филологическое образование диалектная лексика как объект изучения и средство обучения в курсе «Мордовская (эрзянская/мокшанская) диалектология» и на смежных с ним спецкурсах
В статье анализируются словообразовательные и семантические модели эрзянских диалектных наименований грибов, функционирующих как на территории Республики Мордовия, так и за ее пределами, которые используются в процессе обучения студентов-филологов. Значительная часть лексического материала впервые вводится в научный оборот; единичным лексемам дается ареальная характеристика.
Вузовскому курсу «Мордовская (эр-зянская/мокшанская) диалектология» отводится особое место в системе дисциплин лингвистического цикла по подготовке филолога. Данный курс позволяет расширить спектр знаний студента-словесника не только в области диалектологии, но и по современным мордовским (эрзянскому и мокшанскому) языкам, которые помогут ему ориентироваться в сложных вопросах, связанных со структурой мордовских языков.
Студенты-филологи специальностей «Языки и литературы (мокшанский/эр-зянский) Российской Федерации. Русский язык и литература» и «Финно-угорская филология» свои теоретические знания, полученные при изучении данной дисциплины, закрепляют во время ежегодных диалектологических практик, проводимых как на территории Республики Мордовия, так и за ее пределами в местах компактного проживания эрзи и мокши. Сбор, фиксация и классификация диалектного материала осуществляются по программам, имеющимся на кафедрах мокшанского и эрзянского языков, финноугорского и сравнительного языкознания Мордовского государственного университета. После соответствующей лингвистической обработки он сдается в картотеку словарного кабинета филологического факультета, где осуществляется подготовка диалектологических словарей и лингвистических атласов эрзянского, мокшанского языков.
Лексическое богатство любого языка — это сокровищница, в которой сохраняются сведения об истории народа, о его материальной и духовной жизни. Часть этого богатства составляет диалектная лексика, и она должна быть собрана, систематизирована и тщательно изучена.
Целью данной статьи является описание особенностей названий грибов (ми-конимов), функционирующих в эрзянских диалектах, а также их словообразовательных и семантических моделей, которые используются в учебном процессе.
С исторической точки зрения почти все названия грибов относятся к эпохе самостоятельного развития мордовских языков.
Во всей системе миконимов в роли обобщающего названия выступает слово панго «гриб», относящееся к финноугорскому пласту лексики: мар. панго «гриб, грибной» манс. пангх «мухомор», хант. paqk «мухомор» < ф.-у. *paqкз1. Исследователями единого этимологического решения по данной лексеме пока не найдено. Однако имеется мнение, что рассматриваемое слово относится к иранским заимствованиям2. Вероятно, его первоначальное значение связано с корневой морфемой пан= «нечто, поднятое вверх, нечто выпуклое». Та же морфема, по-видимому, обнаруживается в словах э. панго, м. панга «головной убор (женский)», э. пандо, м. панда «возвышенность, гора», где -го/-га, -до/-да —
словообразовательные суффиксы, в современных мордовских языках считающиеся интегрированными. Отметим, что в эрзянском и мокшанском языках и их диалектных подразделениях для обозначения различных видов грибов широко употребляются номинанты с обязательным присутствием в них лексемы па^-го/па^а «гриб».
Рассматривая словообразовательные модели эрзянских диалектных миконимов, необходимо подчеркнуть, что их число невелико и наиболее продуктивными являются три нижепред-ставленные.
-
1. Модель ‘сущ. + сущ.’ или ‘сущ. (ген.) + сущ. ’: guj paqgo (Paasonen, III, 1532) «шампиньон» (букв. змея-гриб), nar paqga (шлк.) «опенок» (луг-гриб), kaval paqgo (Paasonen, II, 651) «мухомор» (ястреб-гриб), moda paqgo (прк.) «груздь» (земля-гриб), karvo pa q ge (дрк.) // karvo paqgo (алв.) «сыроежка» (муха-гриб), kacama paqga (скв.) «дождевик» (дым-гриб), karovun’ pa q ga (шкш., млс., шрм.) «мухомор» (мухи-гриб), kujin’ gr’iba (нмн.) «мухомор» (змеи-гриб), oftun' al (млс.) «дождевик» (медведя-яйцо), tatarun’ gr’iba (шкш.) «дождевик» (татарский гриб), skalun’ kenct (скв., шрм., млс., днк., крв., нрв., брз., стнд.) «свинушки» (коровы-ногти), pur’gin ’е al (Paasonen, I: 22) «дождевик» (гром-яйцо).
-
2. Модель: ‘прил. + сущ.’: jaks’t’er’i paqga (нмн., с.пчр.) // jaks’t’ir’e paqga (н.алк.) «краснуха» (красный-гриб), durakpaqgo (двд.) «шампиньон» (дурак-гриб), jaks’t’er’e paqgi (б.тлк.) «сыроежка» (красный гриб), rauzo paqgi (б.тлк.) «свинушки» (черный-гриб), naula paqgi (б.тлк.) // naula paqko (Ега) «валуй» (скользкий гриб), capamo paqgo (прк.) «волнушка» (горький-гриб). Первый компонент некоторых наименований, представляющих данную модель, может быть осложнен аффиксоидом -pr’a : durak-pr’a paqga (шлк.) «шампиньон» — или словообразовательным суффиксом -kaj : jaks’t’ir’-kaj paq k (м.шмл.) «краснуха».
-
3. Модель: ‘отглагольное сущ. + сущ.’: kistama paqge (дрк.) «бледная поганка» (пляска-гриб), ёивтема па^гoт (СЧ) «ядовитые грибы» (выход-гриб), cikerkajpaqge (дрк.) «скрипица» (скрип-гриб). Эта модель может быть обогащена за счет наименований, которые образованы по схеме ‘сущ. + отглагольное сущ.’: karov kuluftuma (скв., брз., крв., днк., стнд.) «мухомор» (муха-умертвление).
В представленных материалах наличествует небольшое количество наименований грибов, в процесс образования которых могут вступать более двух лексем. Например: bojarava paqga (шлк.) «белый гриб» (барыня-гриб); moda potmun asa griba (днк.) «шампиньон» (земля-внутренности-белый-гриб); poks durak paqgo (брн., тлт.) «шампиньон» (большой-дурак-гриб); а0о дурак па^-го (СЧ) «бледная поганка» (белый-ду-рак-гриб); bojar aso paqgo (брн., двд., тлт.) «белый гриб» (боярин-белый-гриб), rauza alks paqga (н.алк.) «шампиньон» (черный-низ-гриб).
С семантической точки зрения эрзянская диалектная миконимическая лексика более разнообразна, о чем свидетель-свуют приведенные ниже модели.
-
1. Модель ‘цвет’ ^ «наименование»: rauza paqgit (б.тлк.) «свинушки» (черные-грибы); rauzo alks paqk (нмн., ршт., хлс.) «шампиньон» (черный-низ-гриб); jaks’t’ir’kaj paqk (м.шмл.) «краснушки» (красный-гриб); jaks'ferepaqgi (б.тлк.) «сыроежка» (красный-гриб); aso paqga (ксг.) «валуй» (белый-гриб). Имеется ряд фонетических вариантов для белого гриба : asa openka (грт., ст.нмн.) (белые-опята), aso paqga (ксг., прк., смк.) // asa paqga (скв.) // asu paqga (шрм., млс.) // asa grip (шрм.) // asa gr’iba (днк.) // asa gribava (нмн.) (белый-гриб). В некоторых говорах встречаются метафорические названия для белого гриба: bojarava paqga (шлк.) (барыня-гриб); bojar aso paqgo (брз., двд., тлт.) (боя-рин-белый-гриб); dorogoj paqga (нмн., с.пчр.); dorogoj grip (ч.урм.) (дорогой-гриб). Данный признак в названиях грибов отмечается и в других языках.
-
2. Модель ‘свойство, воспринимаемое на вкус или обоняемое’ ^ ‘наименование’: э. л. ёамбамо па^го «сыроежка» (сладкий-гриб); capamo paqgo (прк.) «волнушка» // capama paqga (ант., дбн., злс., мрг., сйн.) «горькуша» (горький-гриб); kacamo paqgo (скв.) «дождевик» (дым-гриб).
-
3. Модель ‘нечто скользкое, покрытое слизью’ ^ ‘наименование’: naula paqga (б.тлк.) // naola paqko (Ега) «валуй» (скользкий-гриб). Отметим, что это же свойство отражено в названии куя па^го «масленок» (жир-гриб), имеющееся в «Эрзянско-русском словаре» А. П. Рябова3 и некоторых диалектных подразделениях: kuja paqgo (отр., смл., н.трд., сбв., тгл.). Самое распространенное наименование масленка в эрзянских говорах — navUkaj «скользкий».
-
4. Модель: ‘дерево’ ^ ‘наименование’. Эта модель, которой свойственно «тяготение отдельных видов грибов к определенным породам деревьев»4, является довольно распространенной. Корпус диалектных наименований, построенных по данной модели, в основном совпадает с эрзянским литературным языком с имеющимися фонетическими вариантами. Например: подберезовик — kil ’ e q pa q ge (дрк.), k ’ il’ijin ’ pa q ig ’ e (шрм.), k ’ iPij gr’iba (скв., брз., млс., крв., нрв.), k’il’ojpa П go (брн., тлт.) (береза-гриб); рыжик — p ’ ico paqga (шлк.), p’ici paqga (н.алк.), p’ico paqk (нмн., ршт., хлс.) (сосна-гриб); дубовик — tumo paqga (м.шмл.), tumin’ paqga (н.алк., нмн., с.пчр. ) (дуб-гриб).
-
5. Модель ‘животное, насекомое’ ^ ‘наименование’. Данная модель в основном содержит пейоративные названия, т. е. в них подчеркивается непригодность, несъедобность гриба для человека: karvo paqge (м.срс.) «мухомор» (муха-гриб), gujin ’ paqga (кр.зрк.) «бледная поганка» (змеи-гриб), karovun’ paqga (шкш., млс., шрм.) «мухомор» (мухи-гриб), kaval paqgo (Paasonen, II: 651) «мухомор» (ястреб-гриб), kiskan’ paqge (дрк.) «мухомор» (собаки-гриб). С
-
6. Модель ‘место произрастания’ ^ ‘наименование’. Миконимы, именованные по данной модели, с семантической точки зрения мотивированы. Например, шампиньон имеет следующие фонетические корреспонденции: navuz paqga (смк.) // naviz paqga (шгр.) // naz’om paqga (прм.) (навоз-гриб). Как правило, шампиньоны растут в хорошо унавоженной почве, с достаточным содержанием перегноя. Кроме этого, данный номинант имеет ряд лексических синонимов: moda potmon’ asa gr’iba (днк.) (земля-внут-ри-белый-гриб), moda paqga (гзн., смк., прк., бзв., шгр.) (земля-гриб), — в которых наблюдается отражение того этапа жизни миконима, когда его созревание происходит в земле.
-
7. Модель ‘время появления’ ^ ‘наименование’: vas’in’ paqga (ксг.) «смор-
- чок» (первый-гриб), э. л. тундонь панго «сморчок» (весенний гриб), s’oks’en’ op’enka (ксг., грт., смк., ст.нмн.) «осен-ние-опята». Как видно из приведенных примеров, эта модель малопродуктивна.
-
8. Модель: ‘имя собственное’ ^ ‘наименование’: dun’aska (ст.нмн.) «дубовик»; masaj paqga (чнд.) «кулачки». В подобных наименованиях грибов очень сложно определить, с чем связана их характеристика: с каким-либо конкретным лицом местности, где функционирует миконим, или же с каким-либо событием.
другой стороны, в нее включаются и такие миконимы, в которых может быть выражена пригодность гриба для самого животного или насекомого, хотя это мы отмечаем с малой долей вероятности. Например: kaval paqga (к.вн.) «шампиньон» (ястреб-гриб), kiskan’ paqga (нск.) «шампиньон» (собаки-гриб), vadov paqga (пвд., ант., мрг., сйн., трг., чнд.) «шампиньон» (коршун-гриб); alasapaqgo (н.трд., смл., тгл.) «волнушка» (лошадь-гриб), losatka (ст.трд.) «волнушка» (лошадка).
Любопытно отметить, что для разграничения пригодности и непригодности грибов в некоторых эрзянских говорах, например в говоре с. Пуркаево Дубенского района РМ, используются словообразовательные возможности языка. В названии мухомора участвует составное образование karvo paqgo, а сыроежки — суффиксальное karinza.
В данную модель включаются и такие наименования, как nar paqga (шлк.) «опенок» (луг-гриб), mastorpaqgo (прк.) «груздь» (земля-гриб), э. л. паёакс па^-го «опенок» (крапива-гриб), moda paqga (ант., чнд., пвд.) «груздь» (земля-гриб), которые не представляют трудности для этимологизации.
Имеются единичные наименования, с помощью которых можно представить ареал распространения того или иного наименования. К ним можно отнести наименование дождевика . В «Эрзянско-русском словаре»5 зафиксирован миконим поспанго, довольно сложно раскрываемый с точки зрения этимологии. Однако, на наш взгляд, его ареальное распространение, где сохранено название kacamo paqga (скв.) (дым-гриб), поможет представить семантическую модель: ‘нечто воздушное, рассыпчатое’ ^ ‘наименование’. Этот гриб растет без ножки и вначале созревания содержимое в нем выглядит в виде белой творожистой массы, которая постепенно превращается в грибные споры темно-коричневого цвета. Вероятно, в наименовании поспанго первоначальными словообразовательными компонентами выступали почт «мука» + панго «гриб». В результате закона взаимосцепляемости образовалось сложное слово, выражающее лексико-семантическое единство, в котором ощущался избыток согласных на стыке двух основ, служивший большим препятствием при произношении. Благодаря переходу сочетания согласных (глухая аффриката + глухая смычная = чт > в глухой щелевой с ) вновь образованное сложное слово для данного языка оказалось более рациональным и удобным в произношении.
По словам О. Г. Винокура, сложное слово является «результатом высокого этапа абстракции, оно нужно не только для удовлетворения потребности в новых словах, но также и потому, что очень часто действительно существует потребность выразить две идеи в одном слове»6. Перед нами — тот случай переноса, который осуществлен через прямое значение. Новое значение наименования поспанго зависит от сочетаемости, которая обусловливается определенными сущностными свойствами. Переносное значение слова почт связано с понятиями «рыхлый», «рассыпчатый», «раздробленный», что, видимо, дало новое более приемлемое для носителей эрзянского языка наименование — kacamo paqgo. Значение последнего понимается не как отражение обозначаемого объекта, а как объект, содержащий «нечто воздушное, рассыпчатое».
В исследуемых нами говорах выявлены и опосредованные восприятия признаков. Известно, что для подберезовика общераспространенным наименованием является kil’ej paqgo. Наряду с ним встречаются единичные вкрапления, сохранившиеся в диалектных подразделениях, каковым является, например juda baba (прк.). Судить о том, что представлял собой тот образ, который послужил отправным, довольно трудно. Носители данного говора связывают это название с особенностью ножки гриба — в темно-коричневых крапинках, скрытых от взгляда шляпкой гриба. Вероятно, название заимствовано из русских говоров, расположенных на территории Больше-березниковского района РМ. В. А. Меркулова7 полагает, что, поскольку «и в Польше бабкой называют подберезовик, можно сблизить это слово с другим его названием — обабок и объединить их в этимологическом отношении, производя от корня баб= „морщиться, дрябнуть, разбухать“». Для сравнения приведем такие наименования: pur ’gin’ e al (Paasonen, I: 22) «дождевик» (гром-яйцо), ul’umka (клч.) «валуй», skalun’ kenst (скв., шрм., млс., днк., стнд., крв., нрв., брз.) «свинушки» (коровьи-ногти), l’ul’ka
(сйн.) «сыроежка», oftun ’ al (млс.) «дождевик» (медведя-яйцо), в которых трудно объяснить, какой признак был выбран для наименования.
Ассоциации, которые положены в основу подобных наименований, говорят о широком восприятии предметов и явлений объективного мира для носителей тех или иных говоров. В результате их мыслительной деятельности создаются наименования, базирующиеся на основе вторичной номинации.