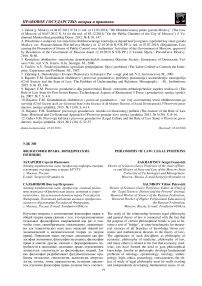Философия права: юридические позиции
Автор: Захарцев Сергей Иванович, Сальников Виктор Петрович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 1 (43), 2016 года.
Бесплатный доступ
Изучение вопроса о соотношении философии права и общей теории права связано с тем, что предназначения отдельных философских направлений как раз в том, чтобы стать своеобразными «мостиками», ориентирами для теоретических наук всех отраслей знаний (от экономической и математической теории до теории права). Появление таких научных дисциплин как философия экономики, философия медицины, философия права и многие другие, связано с формированием потребности в экономике, медицине, праве, стремлением дотянуться, «подняться» до философских знаний. Так как философия разрабатывает фундаментальные проблемы онтологии, гносеологии, аксиологии, антропологии, логики, этики, праксиологии, сознания, предметом изучения философии права должны быть соответственно реально существующие и самостоятельно развивающиеся основополагающие проблемы онтологии права, гносеологии права, аксиологии права, антропологии права, логики права, этики права, праксиологии права, правосознания.
Философия, философия права, онтология права, гносеология права, аксиология права, антропология права, логика права, этика права, праксиология права, правовая культура, правосознание, правовая реальность
Короткий адрес: https://sciup.org/142233791
IDR: 142233791 | УДК: 340
Текст научной статьи Философия права: юридические позиции
Философия права не входит в общую теория права, а обозначает ей направления познания права, методологию права и формулирует подходы и фундаментальные проблемы права, ищет пути их решения. Тогда получается, что в предмет философии права входят основополагающие вопросы правового бытия, правовой реальности, сущности права, методологии познания права, ценностей права, осознания права, логики права, места человека в правовых отношениях. Здесь появляется ощутимое разграничение предмета философии права и общей теории права, поскольку в ведение философии права входит осмысление глобальных фундаментальных проблем права и указание методологических установок, ориентиров для теории права.
Собственно, предназначения отдельных философских направлений как раз в том, чтобы стать своеобразными «мостиками», ориентирами для теоретических наук всех отраслей знаний (от экономической и математической теории до теории права). Философия права выступает тем самым «мостиком», связующим звеном между «чистой» философией и теорией государства и права как основой для всей юридической отрасли знаний.
Обстоятельства, в связи с которыми философия права несколько утратила свое значение для юридических наук, просты и понятны. Философы, как мы уже отмечали, считали рассмотрение проблем права не главным направлением философии, не уделяли ему должного внимания. Инициативу перехватили юристы, ставшие, что естественно, рассматривать философию права в первую очередь с юридических позиций. С этого момента философская составляющая стала заметно ослабевать. А сама философия права стала больше походить на один из сегментов теории государства и права. Однако подход по отнесению философии права к общей теории права в настоящее время не вполне приемлем.
Во-первых, при таком подходе возникает проблема разграничения предметов теории государства и права и философии права. Предпринятые попытки разграничения лишь усилили субъективизм в теории государства и права. Системных попыток «поднять глаза к небесам» и вывести философию права из чисто юридических дисциплин делалось явно не достаточно.
При этом, во-вторых, важно осознать, что философия не терпит ограничений пределами одной науки. Размещение философии права в юридических науках подразумевает ограничение этой дисциплины рамками общеправовой теории. То есть, речь начинает идти не о философии, а о философствовании в пределах юридических наук. В этом смысле философия права теряет свое подлинно философское предназначение.
Г.Ф. Шершеневич, критикуя философов, писал о том, что они рассматривают право, не вдаваясь в конкретику правовых реалий [38, с. 20-21; 39, с. 15-16]. Во многом это действительно так. Но ведь перед философами права стоят другие, более глобальные вопросы, требующие философского осмысления. Например: право и научно-технический прогресс (право должно способствовать, умеренно регулировать, а где-то и препятствовать такому прогрессу, скажем, в части биомедицинских опытов над человеком [16; 27; 31; 32]); право и истина (должно ли право стремиться устанавливать объективную истину, получать подлинные знания либо достаточно юридической истины); взаимодействие права и вненаучных знаний [10]; право и внеземная цивилизация; проблема формирования единой мировой правовой системы путем конвергенции норм [11; 12] и пр. И само собой: философское осмысление соотношения права и свободы, права и справедливости [33; 40; 41; 42], права и равенства, правовых ценностей [25; 28; 29; 30], правового прогресса [13; 14], компрехендного подхода к праву и др. Кроме того, именно философия права может объективно оценить состояние юридической науки и юридических работ.
Изучение же философией права содержания конкретных правовых норм и реалий осуществляется, при необходимости, для решения указанных выше и других глобальных задач.
Кроме того, замечание Г.Ф. Шершеневича относится к началу ХХ века, т.е. к тому времени, когда философия права еще не стала междисциплинарной наукой, только начала формулирование науковедческих основ и не была в должной мере «вооружена» юридическими знаниями.
Третье. Отдельные юристы, даже подготавливая работу по философии права, не любят и не желают выходить за рамки юриспруденции. То есть, подлинно философские и философско-правовые проблемы стремятся рассмотреть строго в пределах правовых дисциплин, не углубляясь, а подчас и не подгружаясь в философию. Это само собой сильно обедняет и «обрезает» исследование. А иногда написанное и вовсе нельзя отнести к философии права, поскольку работа написана по теории государства и права, истории государства и права, истории политических и правовых учений, но не по философии права. В этом случае философия становится некими закрытыми воротами, прикрываясь которыми можно писать фактически что угодно. Но, увы, это путь не в сторону познания.
У ведущих философов России, судя по всему, есть стремление подключиться к проблемам философии права. Это заметно хотя бы по выступлениям на «Круглом столе Конституционного суда Российской Федерации», в котором приняли участие академики В.С. Степин, А.А. Гусейнов, В.А. Лекторский [5; 15; 20; 34]. Названными учеными перед юристами были поставлены вопросы, имеющие несомненно философско-правовой характер: право и информационное насилие в мире, право и частная собственность, право и эксперименты над человеком и человечеством и др. Активно ли включится юридическое сообщество в осмысление этих проблем? Но чем больше оно будет в них погружаться, тем очевиднее станет то, что поставленные вопросы носят не столько правовой, сколько философско-правовой и философский характер. Это опять же подтверждает наш вывод о том, что философия права в условной иерархии знаний должна размещаться над общей теорией права, а не внутри этой теории. Изучение философии права внутри юридических наук не верно.
В современных юридических словарях состояние философии права отражено достаточно объективно. Так, в словарях под редакцией А.Я. Сухарева и А.Б. Барихина указывается, что философия права – наука о наиболее общих теоретико-мировоззренческих проблемах правоведения и государ-ствоведения. Длительное время выступала как составная часть философских систем. В современном обществе, как написано далее, философия права – по преимуществу составная часть широко развивающейся юридической науки; нередко термин «философия права» употребляется как синоним общей теории (общего учения) о праве. Однако с конца ХIХ века философия права чаще понимается более узко, как автономная дисциплина, отличная от теории и социологии права, призванная изучать не само действующее право, а идеальные духовные начала, лежащие в основе права. Основным понятием понимаемой таким образом философии права становится «идея права» [2, с. 671; 3, с. 737–738].
Такое отражение современного состояния весьма четко показывает, что философия права в ХХ и ХХI веке все более отдаляется от философии. Идеальные духовные начала несомненно надо изучать, однако нельзя сводить философию права к изучению только этих вопросов. В праве значительно больше глобальных проблем, оценить которые может именно и только философия. Собственно поэтому мировоззренческие глобальные проблемы и именуются философскими. В этом смысле О.Э. Лейст верно заметил, что философия права не обязательно критикует действующее право и не всегда противопоставляет ему идеальное право, которое еще не существует. Философия права всегда ставила и ставит цель не только оценки действующего права, но и постижения природы и смысла права вообще [19, с. 272-273].
Если предмет философии права урезать только до «идеальных духовных начал права», тогда не совсем ясно, для чего названную науку называть именно «философией» права. Такой узкой и именно юридической дисциплине можно предложить другое более конкретное наименование. И не употреблять философию всуе.
С какой целью мы вводим сами себя в заблуждение, полагая, что «идеальные духовные начала права» и есть философия права? Очевидно, что она в таком истолковании мировоззренческое и методологическое понимание права даст в очень усеченном виде, а говоря точнее – не даст.
Здесь опять же важен подход. «Идею права» в неокантианском, неогегельянском или ином истолковании изучать с философских и философско-правовых позиций можно и нужно. Это рассмотрение будет давать импульс развития общей теории права, указывать ей дорогу к познанию. При этом, что важно, познание неокантианства, неогегельянства и других течений будет осуществляться с философских позиций, комплексно, объективно, широко, с учетом всех философских знаний. Но такое возможно в случае нахождения философии права над общей теорией права. В противном случае (если считать философию права юридической наукой) указанные подходы и течения будут изучаться только в пределах юридических наук, то есть не полно. И тогда подобная научная работа превратится из философии в фикцию, поскольку трудно быть сторонником, например, неогегельянства без комплексного изучения трудов Гегеля, его сторонников и противников, работ других философов, философской критики. Если же исследователь попытается обратиться к подлинно философской мысли, то он очевидно значительно выйдет за предмет юридических наук. В связи с этим, философию права нельзя рассматривать как часть общей теории права, то есть ограничивать ее предмет рамками юридических наук.
Поэтому в целом можно согласиться с исследователями в том, что философия права отличается от общей теории права не только более высокой степенью абстрактности философских понятий и категорий, но и выходом за пределы юридической проблематики [19, с. 264].
Важен и другой вопрос, связанный с взаимодействием и взаимопроникновением наук. Сможет ли философия права, не углубляясь в философию, повышать потенциал общей теории права? Видимо, нет, ибо, откуда в таком случае философии права питаться идеями?
Это, конечно, вовсе не означает, что философия права должна стать уделом исключительно философов. Об этом Г.А. Гаджиев верно заметил: «Не стоит думать, что философские размышления – монополия профессиональных философов и что занятие философией юристов, экономистов, литераторов – недопустимое интеллектуальное браконьерство» [4, с. 6]. Однако на практике мы чаще видим обратное: юристы неохотно привлекают философов для постижения философских проблем права, декларируя при этом, что философия права – это юридическая дисциплина и «вотчина» юристов, а не философов.
В-четвертых, в научной дисциплине, одной из составляющей которой является философия, она по определению должна доминировать, играть заглавную роль. В противном случае эта дисциплина перестанет быть философией.
Все подобные дисциплины (философия экономики, философия истории, философия медицины, философия права и др.) создаются на философской базе. Порядок их формирования таков. Философия выступает общим по отношению к конкретной науке (частному). Вначале внутри философии выделяется направление, относящееся к конкретной науке. Одновременно в науке формируются вопросы, выходящие за ее предмет и требующие философского осмысления и разрешения. Дальнейшая интеграция этого философского направления и науки приводит к образованию новой научной дисциплины. Но в такой конструкции частное (знание из конкретной науки) не может довлеть над общим (философией). Рассматривать философию с позиции, например, экономики или с позиции права не логично и не верно. Должно быть наоборот.
Всегда ли происходит подобная интеграция? Опыт показывает, что не всегда. В ряде естественных и гуманитарных наук она не происходила. Одной из причин является то, что не все, например, естественные науки нуждаются в подобных интеграциях. Философских проблем (или проблем, требующих философского уровня осмысления) в подобных науках относительно немного. Потребности формирования самостоятельных направлений в философии не возникает.
Отсюда ясно, что для образования таких научных дисциплин как философия экономики, философия медицины, философия права и других у соответственно экономики, права должна быть потребность в них, должно быть стремление дотянуться «подняться» до философских знаний. Такие науки стремятся в философию. Стремятся, чтобы с ее помощью разрешить свои научные проблемы, но, конечно, не для того, чтобы оценить саму философию с позиции экономики, медицины или права. Поэтому ключевое слово в названных дисциплинах, несомненно, за философией.
Таким образом, философия права является междисциплинарной наукой. Подобные научные дисциплины мы предлагали называть философско-специализированными [9; 15].
Если понимания приоритета философии нет, отсутствует потребность в философах, то для чего формировать философско-специализированную научную дисциплину? Возникающие проблемы можно пробовать решать в пределах конкретных наук. Однако ученые, готовые заниматься философией права без философов, как ни странно встречаются. Но философия ли это будет? Вот ведь в чем вопрос?
Правда, чуть отвлечемся, словами «право», «правоведение», «юриспруденция» прикрываться тоже любят. В подтверждение наших слов приведем пример. В свое время мы ознакомились с одним учебным пособием по юридической психологии. В нем отмечалось, что юридическая психология это психологическая наука и материал в пособии подается в первую очередь с психологической точки зрения. Пособие было интересным и содержательным, наполнено психологическими темами и размышлениями. По ознакомлении у нас возник лишь один вопрос: для чего в названии пособия фигурировало слово «юридическая»? Это слово было там явно лишним, так как содержание пособия имело явную психологическую направленность. Слова «юридический», «правоведение» мелькали лишь во введении и заключении. Непосредственно в основной части работы мы обнаружили всего два примера, связанных с юридической практикой. И при этом в заключении делался вывод о том, что знания психологии очень важны и должны активно использоваться в юриспруденции. С таким выводом мы, конечно, не спорим. Но ведь надо признать, что данная работа была написана по психологии, а юриспруденция с учетом современной популярности юридических знаний выступала своего рода ширмой, завесой, давала пособию более привлекательное название. Кстати, это не единственный пример. Нам встречалось учебное пособие, посвященное логике, но для юристов. Его содержание представляло собой добротное учебное пособие исключительно по логике.
Возникает вопрос: не схожую ли ситуацию только по отношению к философии мы подчас наблюдаем в философии права, когда готовятся чисто юридические работы, в которых периодически вкрапливается манящее всех слово «философия»?
В-пятых, размещение философии права внутри общей теории права не могло не повлиять на точ- ность определения предмета исследуемой дисциплины. Философия имеет мировоззренческое и методологическое предназначение. Если базироваться на философии, то очевидно, что предмет философии права обязательно должен сочетать в себе и мировоззренческую, и методологическую составляющую.
Современные российские философы права нередко отталкивались не от философии, а от права. Возможно поэтому в их рассуждениях, как правило, делался акцент только на одну из составляющих предмета. Например, С.С. Алексеев и В.С. Нерсесянц писали об исследуемой науке главным образом с точки зрения мировоззрения. Такой подход, естественно, не являлся полным, почему и справедливо критиковался другими специалистами [18, с. 14-15]. Попыток объединить мировоззренческую и методологическую позицию предпринималось явно не достаточно.
Таким образом, философия права занимает место между философией и юридическими науками.
Возьмем за основу то, что философия разрабатывает фундаментальные проблемы онтологии, гносеологии, аксиологии, антропологии, логики, этики, праксиологии, сознания, В этом случае предметом изучения философии права должны быть соответственно основополагающие проблемы онтологии права, гносеологии права, аксиологии права, антропологии права, логики права, этики права, праксиологии права, правосознания.
Наша позиция с точки зрения определения составляющих предмета философии права не столь оригинальна. Дискуссии о том, что из названного включать или, напротив, исключить из предмета ведутся уже длительный период. Наш подход выражен в стремлении приблизить философию права к философии, поднять ее над общей теорией права, а не рассматривать внутри юридических наук. А главное: рассматривать философию права как самостоятельную философско-специализированную науку.
С радостью отмечаем, что в юридической среде появляются специалисты, рассматривающие философию права больше с философских, а не юридических позиций. К таким, например, относится известный немецкий юрист Р. Алекси. Интересен и комментарий С.И. Максимова по поводу работ этого ученого. С.И. Максимов пишет, что Р. Алекси: «Трудно упрекнуть в какой-либо предвзятости, как это часто бывает у нас, когда профессора философии настаивают на философском характере философии права, а профессора права – на юридическом. Р. Алекси – юрист, наряду с лекциями по философии права он также читает лекции по проблемам публичного права. Поэтому не будем спешить обвинять его в измене корпоративным интересам…» [22, с. 17].
Надо сказать, что и сам С.И. Максимов, будучи известным юристом, рассматривает правовую реальность в первую очередь с философских позиций [21].
О необходимости объединения усилий философов и юристов именно под философским крылом говорит В.Д. Зорькин. Реалии времени, – как считает ученый, – подталкивают к тому, «чтобы философы говорили о праве, а юристы слушали философов и понимали, что право состоит не просто из собрания законов, - иначе достаточно одной законодательной реформы, а огромные библиотеки, если даже здесь доверху стеллажи поставить, отправляются в макулатуру. Не нужно замыкаться в узких рамках, необходим широкий взгляд на юриспруденцию, завещанный выдающимися российскими мыслителями нам – тем, кто занимается интеллектуальным трудом, будь то практическая работа юриста, или преподавание, или академическая деятельность. И главный импульс, мне кажется, все же должны задать философы» [17].
Попытки рассмотрения предмета философии права внутри юриспруденции постоянно сталкиваются с противоречиями. Например, не все ученые включают в предмет философии права онтологию права. На самом деле, что как не философия изучает онтологию? Можно ли философские размышления об онтологии права, например Гегеля, не относить к философии права?
Вызывало спор, на наш взгляд необоснованный, включение в предмет философии права правовой логики. Хотя очевидно, что логика – философская наука, поэтому препятствий для изучения логики права в рамках предмета философии права не имеется.
Многие не достаточно внимания уделяют вопросам человеческого сознания, осознания человеком права, правосознания, поэтому, видимо, даже не задумаются о необходимости включения этих вопросов в предмет философии права. В.П. Малахов высказал верную мысль о том, что у многих отечественных правоведов правосознание совершенно выпадает из поля зрения; оно представлено лишь имплицитно, в своем содержании [23, с. 10].
Не все специалисты почему-то включают в предмет философии права этику права. Право по своей сущности должно находиться на страже добра. Проблема добра и зла является центральной проблемой этики. Учения о добре и зле [1; 8], нравственности и безнравственности, морали, добродетели, справедливости [24; 35; 36; 37], счастье и долге традиционно изучаются этикой как философ-

ской дисциплиной, но имеют важнейшее значение для философии права [6; 7]. Этический взгляд позволяет оценивать право не только, например, с гносеологических позиций, но и нравственной, что особо важно для осмысления правового бытия. В правовой реальности, кстати, было достаточно примеров, когда то, что столетия назад считалось нравственным, стало безнравственным, а то и преступным. И наоборот.
Этика как наука о высшем благе человека, о добре, выступает своеобразным методологическим ориентиром для познания права. То есть, познание происходит не ради самого познания, а в конкретном направлении [26]. Именно этические ценности лежат в основе всех правовых концепций. И в этом смысле правовая этика осуществляет поиск идей, принципов, основ, регулирующих поведение человека, направляющих его поступки, устанавливающих критерии добра. Здесь же рассматриваются и основные проблемы применения таких моральных идей, принципов, основ в конкретных ситуациях, связанных с моральным выбором. Процесс познания правового бытия без этики обедняет сам себя, теряет цели и ориентиры. Поэтому несомненно, что этика права входит в предмет изучения философии права.
Список литературы Философия права: юридические позиции
- Александров А.И. Философия зла и философия преступности (вопросы философии права, уголовной политики и уголовного процесса) / Вступительное слово член-корреспондента Российской академии наук Д.А. Керимова. СПб.: СПбГУ, 2013. 598 с.
- EDN: VDJNFN
- Барихин А.Б. Большой энциклопедический словарь. М., 2005.
- Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева. М., 2003.
- Гаджиев Г.А. Онтология права (критическое исследование юридического концепта действительности). М., 2013.
- Гусейнов А.А. У философов и юристов много общих тем.Философия права в начале ХХI столетия через призму конституционализма и конституционной экономики / Пред. Миронов В.В. и Солонин Ю.Н.; издание Московско-Петербургского философского клуба. М.: Летний сад, 2010. С. 11-15. 320 с.