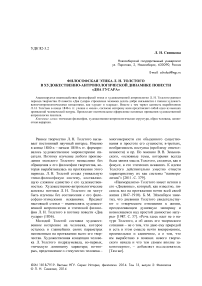Философская этика Л. Н. Толстого в художественно-антропологической динамике повести "Два гусара"
Автор: Синякова Людмила Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Анализируется взаимодействие философской этики и художественной антропологии Л. Н. Толстого раннего периода творчества. В повести «Два гусара» стремление человека делать добро связывается с такими художественно-антропологическими концептами, как «душа» и «сердце». Вместе с тем теряет ценность выработанное Л. Н. Толстым в конце 1840-х гг. учение о «воле», согласно которому воля представляет собой одно из высших проявлений человеческой натуры. Происходит окончательное оформление основных принципов художественной антропологии писателя.
Этическая философия, художественноантропологическая структура, образ человека, ценностная иерархия
Короткий адрес: https://sciup.org/147219010
IDR: 147219010 | УДК: 82-3.2
Текст научной статьи Философская этика Л. Н. Толстого в художественно-антропологической динамике повести "Два гусара"
Раннее творчество Л. Н. Толстого вызывает постоянный научный интерес. Именно в конце 1840-х – начале 1850-х гг. формировалось художественное мировоззрение писателя. Поэтому изучение любого произведения молодого Толстого немыслимо без обращения к его философии творчества, которая вырабатывалась на протяжении этого периода. Л. Н. Толстой создал уникальную этико-философскую систему, составляющую сложное единство с его художественностью. Художественно-антропологические аспекты поэтики Л. Н. Толстого не могут быть изучены без соотнесения с его философско-этическими исканиями. Предмет настоящей статьи – взаимосвязь художественной антропологии и этической философии Л. Н. Толстого в поэтике повести «Два гусара» (1856).
Молодой Толстой составил художественное воззрение на человека, которое осталось в главнейших своих параметрах неизменным на протяжении всего его творчества. Художественная концепция человека Л. Толстого подразумевала, во-первых, этическую доминанту характера; во-вторых, представление о «текучести» человека – многомерности его обыденного существования и простоте его сущности; в-третьих, необратимость поступка (проблему ответственности) и пр. По мнению В. В. Зеньков-ского, «основные темы, которыми всегда была занята мысль Толстого, сходятся, как в фокусе, в его этических исканиях. К идеям Толстого действительно уместно отнести характеристику их как системы “панморализма”» [2011. С. 379].
«Панморализм» Толстого имеет истоки в его «Дневнике», который, как известно, писатель вел на протяжении почти всей своей жизни (1847–1910). Б. М. Эйхенбаум заметил, что дневники Толстого свидетельствуют о «творческом отношении к жизни, преодолевающем душевную эмпирику и возносящемся над простой данностью натуры» [1987. С. 37]. «Речь здесь идет не о натуре Толстого, а об актах его творческого сознания – не о том, что дано ему природой и есть в этом смысле нечто вневременное, произвольное и единичное, а о том, что им выработано в поисках нового творческого начала и что тем самым вполне закономерно», – добавляет исследователь [Там же].
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 2: Филология © Л. Н. Синякова, 2014
Хронологически ранние дневники Л. Толстого можно условно разделить на этапы «морально-регламентирующий» (1847–1851) и «творчески-лабораторный» (1852–1856) 1. Молодой Толстой в стремлении к самосовершенствованию опирался как на самонаблюдение, так и на изучение философских и дидактических систем прошлого, а также публицистических сочинений государственных особ. Так, в записях от 1847 г. содержится разбор «Наказа» Екатерины II (1766). Антропологическая составляющая обнаруживается в исследовании Толстым наследия просветителей (Ш.-Л. Монтескье, Б. Франклин и др.) и сентименталистов (Ж.-Ж. Руссо, Л. Стерн). Но более всего автор «Дневника» в 1840-е – первой половине 1850-х гг. был склонен к саморефлексии и интроспекции, носившим творчески-экс-периментальный характер: «Рассудок внедряется в область художества как новое, творческое начало. Форма расшатывается, приобретает неопределенные очертания, но тем определеннее выступают новые приемы, сообщающие резкость и ясность деталям» [Эйхенбаум, 1987. С. 64–65]. Толстой в ранних дневниках создавал своего рода «эпистемологию морали». Оба подхода к познанию этико-философских основ жизни – самовоспитание и изучение философско-дидактических систем прошлого составили ядро толстовской « генерализации ».
Применительно к художественно-антропологической проблематике творчества Л. Н. Толстого – как раннего, так, до известной степени, и зрелого – необходимо отметить записи от марта – мая 1847 г. о различении «воли телесной», «воли чувственной » и «воли разумной» и сопутствую- щие им размышления о телесной, чувственной и умственной деятельности [Толстой, 1985. Т. 21. С. 15–21] 2. В составленных весной 1847 г. «Правилах» Толстой рассуждает: «Правила внутренние или в отношении к самому себе разделяются на правила образования нравственного и правила образования телесного. Задачей первых есть: развить волю, умственные способности <…> Три главные ее (воли. - Л. С.) владычества суть: преобладание над телом, преобладание над чувствами и над разумом. Ежели воля преобладает над телом, что есть низшая ступень ее развития, то тело перестает существовать самостоятельно, а существует одна воля телесная. Ежели она преобладает над чувствами, то ни тело, ни чувства более не существуют самостоятельно, а существует одна воля телесная и чувственная; ежели же воля преобладает над разумом, то разум перестает существовать самостоятельно, а существует одна воля телесная, чувственная и разумная» (Т. 21. С. 15–16). Освоение высшей степени воли подразумевает преодоление двух низших: «Для того чтобы развить волю вообще и дойти до высшей ступени ее развития, надо необходимо пройти и низшие ступени» (Т. 21. С. 16). Согласно этой морально-интеллектуальной иерархии, в «Правилах» устанавливается порядок волевых движений человека: «Все деяния должны быть определениями воли, а не бессознательным исполнением телесных потребностей»; «Все чувства, имеющие источником любовь ко всему миру, хороши, все чувства, имеющие источником самолюбие, дурны»; «…имей цель для всей жизни, цель для известной эпохи твоей жизни, цель для известного времени <…> жертвуя низшие цели высшим» (Т. 21. С. 17–19).
Однако уже в первой половине 1850-х гг. Л. Н. Толстой начинает испытывать недоверие к «уму» и устремляется к исследованию этики характера и поступка. В замысле «Истории вчерашнего дня» (1851), воплотившемся впоследствии наряду с другими художественными планами в автобиографическую трилогию, «обосновывается перемещение внимания к порокам и слабостям, аргументируется предпочтение аналитического исследования негативных сторон лич- ности выработке правил добродетели и следованию им. Антитеза “порок – добродетель” в этой аргументации осмысляется в одном логическом ряду с полярными началами “зло – добро”» [Галаган, 1981. С. 13]. Зло, согласно этой просветительско-сенти-менталистской концепции, привито человеку извне, а добро присуще ему изначально.
Следует заметить, что такого рода «христианский натурализм» (В. В. Зеньковский) не столь прямолинейно инкорпорируется в художественную практику писателя. Так, в повести «Два гусара» или написанном в том же 1856 г. рассказе «Разжалованный» 3 бесшабашные офицеры, не чуждые карточной игре или кутежу, проверяются на человеческую «подлинность» безотносительно к их принадлежности к разряду «порочных» или «добродетельных» натур. Сдержанный Турбин-младший, один из ведущих персонажей повести «Два гусара», оказывается большим «злом», чем разгульный Турбин-старший, а внешне смирный разжалованный Гуськов низок по своей природе.
Применительно к этико-философским исканиям Л. Толстого всего периода творчества справедливо суждение М. М. Бахтина («Философия поступка») 4: «Каждая мысль моя с ее содержанием есть мой индивидуально ответственный поступок, один из поступков, из которых слагается вся моя единственная жизнь, как сплошное поступление, ибо вся жизнь в целом может быть рассмотрена как некоторый сложный поступок: я поступаю всею своею жизнью, каждый отдельный акт и переживание есть момент моей жизни-поступления» [2003. С. 8]. Несомненно, эта «философия поступка» распространяется и на антропосферу Л. Толстого: каждый из ведущих персонажей его произведений проживает эпизод из «жизни-поступка» – в романистике это значительный временной промежуток, взаимосвязь и последовательность важных «эпизодов»; в повестях и рассказах, как правило, поступок-действие, оказывающий решающее влияние на судьбу персонажа.
Повесть «Два гусара» преломляет ранний опыт Толстого-психолога и мыслителя, выдвигая на первый план проблематику этико- психологического различия двух поколений. В повести воссоздается не история взросления души, а история поступков уже сформировавшегося, «готового» человека. Это означает присутствие в духовно-психологической структуре персонажа определенного и в основном неизменного для «толстовского человека» «набора» художественно-антропологических констант. К ним относится, прежде всего, душа и ее этологическое производное – великодушие; чувство; воля, в том числе к совершению действия или осуществлению желания; рассудок и его атрибуты – расчетливость и практический смысл; ум и его этико-философские корреляции – требования справедливости и добра 5.
Композиционная модель повести «Два гусара» может быть описана как культурноисторическая оппозиция «тогда» и «сейчас» 6. Именно культурно-историческая интерпретация образа человека заложена в экспозиции повести: «В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света <…> ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин <…> когда наши отцы были еще молоды <…> в наивные времена масонских лож, мартинистов <…> во времена Милорадовичей, Давыдовых,
Пушкиных, – в губернском городе К. был съезд помещиков….» (Т. 2. С. 239).
Прошедшее, эпоха 1820-х гг., противопоставляется настоящему – эпохе 1840-х гг. Эпиграф из «Песни старого гусара» Д. Давыдова – «...Жомини да Жомини, / А об водке ни полслова…» – служит паратексту-альным комментарием к основному тексту повести. Если «заглавием книга (или вообще замкнутое литературное произведение) представлена и показана читателю вмале» и книга «есть развернутое до конца заглавие» [Кржижановский, 2006. С. 669], то эпиграф уточняет заглавие, ориентируя читателя на интенциональность текста. Эпиграф анализируемой повести содержит смысл противоположения «серьезного» («Жомини») – «праздному». Так и в самом произведении различаются «текст отца» и «текст сына» 7.
Турбин-отец – натура стихийная. Рассудочность вытесняется в нем импульсом сиюминутного поступка – но поступок этот всегда носит характер справедливого разрешения ситуации. В терминах толстовских «Правил» Федор Турбин руководствуется « волей телесной » и « волей чувственной ». Отставной кавалерист Завальшевский, впрочем, никогда не служивший в кавалерии и никогда не знавший Турбина, с первого взгляда проникся к нему доверием: «Ведь это какая отчаянная башка, надо знать! Картежник, дуэлист, соблазнитель; но гусар – душа, уж истинно душа» (Т. 2. С. 242). Действительно, Турбин с легкостью отдает ямщику вместо полтинника – последние пять рублей; цыганам – тысячу, при этом забыв вернуть кавалеристу сто рублей. Он не ценит деньги, но ценит удовольствие, приносимое деньгами. Заметим, что это существенно отличает Турбина-старшего от его отпрыска.
Эпизод с шулером Лухновым подтверждает сразу два главных свойства натуры Турбина: врожденное чувство справедливости и пренебрежение к материальному (к деньгам). Несчастный корнет Ильин, накануне проигравший Лухнову казенные деньги, был спасен Турбиным – и не просто спасен, а именно возвращен к жизни. Ильин, весь вечер повторявший себе, что он «погу- бил свою молодость» 8, ощущал себя потерянным для мира – родителей, офицеров, всего того круга жизни, в котором он вращался. Наутро он уже упомянул «пулю в лоб» (Т. 2. С. 264). Турбин отобрал у Лух-нова все деньги, вернул проигрыш Ильину, а лишней тысячей, повторим, одарил цыган. Все эти поступки были вызваны как немедленным откликом на «неправду», нарушение (в данном случае Лухновым) нравственных границ, так и безрассудством, свойственным людям, которые обладают волей к «подвигу», поступку. В этом смысле вопрос, заданный только что прибывшим в город Турбиным: «Рассказывай, что у вас в городе есть: хорошенькие кто? кутит кто? в карты кто играет?» (Т. 2. С. 243) – обнаруживает готовность хоть и к «гусарским», но энергичным действиям.
Столь же непосредственно вспыхивает в Турбине-старшем чувство влюбленности к Анне Федоровне Зайцевой, сестре кавалериста Завальшевского. Он совершает ряд, с точки зрения чинного провинциального общества, безумств, о которых никто и не догадывается, – гусар умеет хранить тайну об этой стремительной любовной интриге 9. Так он и покидает город – нарушив его по- кой и размеренное течение жизни: «Немало дивились купцы и прохожие, незнакомые и знакомые, видя благородных дворян, едущих среди белого дня по улицам с песнями, цыганками и пьяными цыганами» (Т. 2. С. 268). Лихие тройки, собака Турбина, его слуга Сашка, ворчавший из-за неравного обмена графской шинели на «поганую синюю шубу», воспрянувший Ильин, исправник, кавалерист, цыгане смешались в единое впечатление проводов человека, который потряс город. Итак, образ личности Турби-на-старшего соответствует представлению об активном добре – напомним цитированное изречение Толстого: «Все чувства, имеющие источником любовь ко всему миру, хороши, все чувства, имеющие источником самолюбие, дурны». Несмотря на то что граф Турбин предается разного рода страстям, он направляет их не на удовлетворение себялюбия, а на преумножение добра (этики дружбы и любви) в окружающем мире.
Автор повести отграничивает эпоху Тур-бина-сташего от следующей эпохи двойным указанием: «Прошло лет двадцать» и «В мае месяце 1848 года С. гусарский полк проходил походом К. губернию» (Т. 2. С. 269). С одной стороны, обозначен временной разрыв, с другой – конкретное время сюжетной истории. В первых восьми главах повести, в которых основным действующим лицом был Турбин-старший, время происходящего не фиксировано, в соответствии с концепцией прошлой эпохи как «наивных времен», когда время не ценилось как материальный ресурс и люди жили размеренно и неспешно (Т. 2. С. 239) 10. Разрыв эпох описывается как процесс деградации «человеческого материала»: «Много воды утекло с тех пор, много людей умерло, много родилось, еще больше родилось и умерло мыслей; много прекрасного и много дурного старого погибло, много прекрасного молодого выросло и еще больше недоросшего, уродливого молодого появилось на свет Божий» (Там же).
Точно так же, как нынешняя эпоха мелка по сравнению с прошлым, которое было славно преимущественно искренними отношениями между людьми, Турбин-млад-ший уступает своему отцу в нравственном и телесно-волевом плане: «Граф Федор Турбин уже давно был убит на дуэли с каким-то иностранцем, которого он высек арапником на улице; сын его, две капли воды похожий на него, был уже двадцатитрехлетний прелестный юноша и служил в кавалергардах. Молодой граф Турбин морально вовсе не был похож на отца. Даже и тени в нем не было тех буйных, страстных и, говоря правду, развратных наклонностей прошлого века. Вместе с умом, образованием и наследственной даровитостью натуры любовь к приличию и удобствам жизни, практический взгляд на людей и обстоятельства, благоразумие и предусмотрительность были его отличительными качествами. По службе молодой граф шел славно: двадцати трех лет уже был поручиком…» (Т. 2. С. 269). Молодой Турбин служит в кавалергардах и преуспевает в карьере. Он не просто сдержан в отличие от отца – он сдержанноосторожен. Основное качество его характера – практичность и мелочность (вспомним, как безжалостно он обыгрывает в карты добродушную Анну Федоровну – ту самую, к ногам которой некогда пал его отец). Из этого вытекает и его эгоистическая потребность в личном комфорте. Перейдя из избы старосты («Фу, мерзость какая квартира!» – досадует изнеженный граф) в дом Анны Федоровны и ее сильно постаревшего брата-кавалериста, Турбин, «как был, в пыльных сапогах», бросается на приготовленную ему заботливыми руками Лизы постель. Молодой гусар всерьез убежден в том, что они с корнетом Полозовым облагодетельствовали своим присутствием хозяев: «Вот вздор! Надо во всем быть практическим человеком. Они ужасно довольны, наверно…» (Т. 2. С. 280).
«Практический человек» Турбин стесняется той памяти, которую оставил по себе его «непрактичный» отец. Оказывается, Ильин до сих пор боготворит своего спасителя. Узнав об этом, Турбин-младший замечает: «Он, кажется, ужасная дрянь, этот Ильин. А главное, что все эти господа, которые уверяют, что знали моего отца, чтоб подделаться ко мне, и, как будто очень милые вещи, рассказывают про отца такие штуки, что слушать совестно. <…> он был слишком пылкий человек, иногда и не слишком хорошие штуки делал. Впрочем, все дело времени. В наш век он, может быть, вышел бы и очень дельный человек, потому что способности-то у него были огромные…» (Т. 2. С. 278). Турбин признает, что отец не был лишен «огромных способностей», у него была цельная и даровитая натура; что отношение к отцу переносится на него, Турбина-младшего, и потому только, чтоб «подделаться» к нему, извлечь выгоду из знакомства с ним; и что, наконец, Турбин-старший мог бы быть в нынешнее время «дельным», иначе говоря, практическим человеком.
Турбин-младший, по-видимому, обладает той самой «разумной волей», о которой Л. Н. Толстой рассуждал в своем «Дневнике» в 1847 г. Однако за девять лет воззрения писателя на ценность волевого начала в структуре личности изменились. Теперь ему интересен человек «природного» склада, не подверженный рефлексии и выработке волевых качеств в том продуманном порядке, который наметил автор «Дневника». В дневниковой записи от 21 марта 1856 г., когда Толстой завершал работу над повестью, находим следующее размышление: « Деятельность , чистосердечие , довольство настоящим и снискание любви (выделено автором. – Л . С .). Главная моя ошибка в жизни состояла в том, что я позволял уму становиться на место чувства, и то, что совесть называла дурным, гибким умом, переводить на то, что совесть называла хорошим» (Т. 21. С. 152). Несомненно, отсутствие чувства и способности к сопереживанию сделали ум молодого графа Турбина «гибким» и «дурным».
Дочь Анны Федоровны Лиза, взволнованно ожидавшая от встречи с блестящим гусарским поручиком счастливого поворота в своей судьбе, довольно быстро убеждается во внутренней пустоте графа. «Его незамысловатые рассказы, запинки в разговоре понемногу успокаивали ее. Она не слышала от него предполагаемых ею очень умных вещей, не видела той изящности во всем, которую она смутно ожидала найти в нем. <…> Лиза вдруг, не без некоторой внутрен- ней тоски расставшись со своей мечтой, успокоилась…» (Т. 2. С. 283). Девушка догадывается, что молчаливый и некрасивый корнет Полозов честнее и содержательнее Турбина: «“Может быть, это не он, а он!” – думала она» (Там же).
Натура Лизы в системе этических ценностей Л. Толстого представляет собой полюс высшего добра. Ранние наброски к «Роману русского помещика» (1852–1856), который распался на несколько чрезвычайно важных для творческой эволюции Л. Толстого повестей и рассказов, заключают в своем составе «Предисловие не для читателя, а для автора». В «Предисловии» писатель рассуждает о содержании понятия добра: «…пре-лесть деревенской жизни, которую я хочу описать, состоит не в спокойствии, не в идиллических красотах, но в прямой цели, которую она представляет, – посвятить жизнь свою добру – и в простоте, ясности ее. Главная мысль сочинения: счастье есть добродетель (выделено автором. – Л . С. )» [Толстой, 1989. С. 225]. Эта запись представляет собой краткое изложение этической философии Л. Н. Толстого. Добро трактуется здесь как активное деяние и вместе с тем осознанное стремление к самосовершенствованию.
Автор повести передает краткую историю становления личности Лизы: «Лучшие вещи всегда выходят нечаянно <…> В деревнях редко стараются давать воспитание и потому нечаянно большею частию дают прекрасное. Так и случилось, в особенности с Лизой». С десятилетнего возраста Лиза стала заниматься воспитанницами «из крепостных или из подкидышей», которых опекала ее матушка. «Потом явился дряхлый, добродушный дядя <…> Потом дворовые и мужики <…> Потом домашнее хозяйство, перешедшее нечаянно все в ее руки. Потом неудовлетворенная потребность любви, находившая выражение в одной природе и религии. И из Лизы нечаянно вышла деятельная, добродушно-веселая, самостоятельная, чистая и глубоко религиозная женщина» (Т. 2. С. 273, 274). Деятельное добро, категория этической философии Л. Толстого, воплощается в измерении толстовской антропологии: в «блестящих глазках» Лизы, «привыкших улыбаться и радоваться жизнью, – так и светилось не испорченное умом, доброе, прямое сердце» (Т. 2. С. 274). Так «сердце», не испорченное «умом», становится главным критерием нравственности в структуре «человека Толстого». Посредником между «сердечным» человеком и миром становится природа 11.
Душа Лизы полностью открыта лунному вечеру, тихой майской ночи, таинственному шепоту деревьев; Турбин-младший может лишь сказать две банальности, к тому же выстроенные по единому грамматическому образцу: «Какая чудная погода!» и «Какая прелестная ночь!» (Т. 2. С. 287, 288). Лиза досадливо думает: « Однако только про погоду и разговаривают » (Т. 2. С. 288). Разгадав натуру графа, она окончательно теряет к нему интерес: «А очень хорош <…> только уж слишком занимается собой» (Там же).
Полозов воспринимает мир так же, как Лиза, – он инстинктивно ставит ценность «сердца» и простой жизни выше ценности «практического» ума: «Что за вздор эти почести и слава военная! <…> Вот счастье – жить в тихом уголке, с милой, умной, простой женою! Вот это прочное, истинное счастье!» (Т. 2. С. 289). Поэтому он оскорблен дерзкой и неприличной выходкой графа – попыткой силой добиться свидания с Лизой – не меньше, чем она. «Я сам испортил: надо было смелее», – цинично признается себе Турбин по поводу неудачи своей ночной вылазки. Полозов называет Турбина «подлецом», но это, пусть справедливое, оскорбление остается без последствий: «…не только не дрались, но никто в полку не знал об этом обстоятельстве, и даже Турбин и Полозов хотя не в прежних дружеских отношениях, но остались на “ты” и встречались за обедами и за партиями» (Т. 2. C. 298). «Практический» ум Турбина сумел проигнорировать то, что страстная натура его отца считала бесчестьем (вспом- ним реплику повествователя о кончине Тур-бина-старшего).
В повести «Два гусара», как и во всем творчестве Л. Н. Толстого, выстраивается ценностная иерархия человеческой сущности – в ней философская этика тесно переплетается с художественной антропологией. Понятия «сердца», «ума», «воли», «чувства», «страсти» в поэтике повести функционируют в единстве с этической философией Толстого, ее главными полюсами «добра» и «зла». Различие двух поколений, 1820-х и 1840-х гг., развертывается в повести в направлении изменения «человеческого материала», тех внутренних качеств человека, которые так или иначе соотносятся с установившимися к этому времени положениями этической философии Л. Н. Толстого. Страстная натура Турбина-старшего, по сути, несет добро, а расчетливость Турбина-младшего оборачивается злом. Природа как источник душевно-чувственного мировосприятия, естественности и красоты человеческого существа является медиатором между «этикой» и «антропологией». Именно сопричастность души человека природе и в целом мирозданию оправдывает его существование в системе этических воззрений Л. Н. Толстого.
Список литературы Философская этика Л. Н. Толстого в художественно-антропологической динамике повести "Два гусара"
- Бахтин М. М. Собр. соч.: В 7 т. М.: Изд-во «Рус. словари»; «Языки славянских культур», 2003. Т. 1: Философская эстетика 1920-х годов. 957 с.
- Бурнашева Н. И. Раннее творчество Л. Н. Толстого: текст и время. М.: МИК, 1999. 336 с.
- Галаган Г. Я. Л. Н. Толстой. Художественно-этические искания. Л.: Наука, 1981. 174 с.
- Зеньковский В. В. История русской философии. М.: Академ. проект, 2011. 880 с.
- Колесов В. В. «Думать» и «понимать» в истории русской культуры (древнерусская парадигма). СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. 24 с.
- Кржижановский С. Собр. соч.: В 5 т. СПб.: Симпозиум, 2006. Т. 4. 843 с.
- Одиноков В. Г. Художественная системность русского классического романа. Новосибирск: Наука, 1976. 196 с.
- Эйхенбаум Б. М. О литературе: работы разных лет. М.: Сов. писатель, 1987. 544 с.