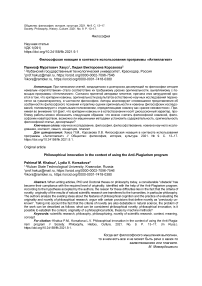Философская новация в контексте использования программы "Антиплагиат"
Автор: Хакуз Пшимаф Муратович, Корсакова Лидия Викторовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 9, 2021 года.
Бесплатный доступ
При написании статей, кандидатских и докторских диссертаций по философии сегодня немалым «препятствием» стало соответствие их требуемому уровню оригинальности, выявляемому с помощью программы «Антиплагиат». Согласно принятой авторами гипотезе, причина этих затруднений кроется в том, что критерии новизны, оригинальности результатов естественно-научных исследований переносятся на гуманитаристику, в частности философию. Авторы анализируют сложившиеся представления об особенностях философского познания и практику оценки оригинальности и новизны философских исследований, полемизируют с отдельными положениями, определяющими новизну как «ранее неизвестное». Принимая во внимание тот факт, что критерии новизны и в естествознании носят дискуссионный характер, проблему работы можно обозначить следующим образом: что можно считать философской новизной, философским новаторством, возможно ли машинными методами установить содержательность, оригинальность философской статьи, диссертации?
Научное исследование, философия, философствование, новизна научного исследования, контекст, смысл, концепция, плагиат
Короткий адрес: https://sciup.org/149138714
IDR: 149138714 | УДК: 1(091) | DOI: 10.24158/fik.2021.9.1
Текст научной статьи Философская новация в контексте использования программы "Антиплагиат"
Когда акт философского мышления выполнен, то в нем есть все и не может быть речи о каких-то заимствованиях или плагиате.
М. Мамардашвили
Истина и доводы разума принадлежат всем, и они не в большей мере достояние тех, кто высказал их впервые, чем тех, кто высказал их впоследствии. М. Монтень
Обратимся к источникам, в которых отрефлексирована проблема критериев новизны философского исследования. А.И. Ракитов утверждает следующее: «Та или иная единица научного знания считается новой, если она отвечает требованиям научности и к моменту ее создания отсутствует в списке ранее установленных научных знаний» [1, с. 149]. Однако данный автор говорит именно о научной новизне, но не о философской. Ведь в философии есть все то, что в ней найдешь. Например, у Платона его современники находили (прочитывали) одно, неоплатоники – другое, сегодняшний читатель – третье. Все это есть в текстах Платона, а также многое другое, что еще никем не найдено. Тем не менее идея распространить критерии новизны научных теорий на философские исследования либо принимается некритически, либо даже аргументируется.
Так, например, по мнению профессоров А.Ф. Кудряшева и О.В. Елховой, научная новизна «всегда предполагает получение результата, который ранее отсутствовал в науке. Новизна в философии полагается как содержательная сторона результата в философских исследованиях, получение нового знания, ранее неизвестного в области философии» [2, с. 1489]. Базовое допущение авторов о тождественности философской и научной новизны было опровергнуто задолго до того, как высказано, ибо «нельзя придумать ничего столь странного и невероятного, что не было бы уже высказано кем-либо из философов» [3, с. 259]. Однако далее авторы рассматриваемой работы анализируют основные параметры, из которых, по их мнению, складывается новизна философской работы. В их числе – объективность полученного результата: «При всей неизбежной субъективности ощущения от полученного результата надо, чтобы в этом последнем было объективно новое содержание» [4, с. 1489]. В то же время известно, что и генерация, и интерпретация результата философствования находится в сфере смыслов, а не объективно существующей реальности, т. е. «новизна необъяснима из объекта, она объяснима лишь из субъекта» [5, с. 246]. Интересно, что А.Ф. Кудряшев и О.В. Елхова мыслят объективность научной теории в пределах философского конвенционализма : «На практике такое требование означает, что таковым результат должен быть признан в некотором кругу специалистов» [6, с. 1489]. Следовательно, научная теория (как и философская) не является адекватным отражением, объективной картиной реальности в сознании исследователя и все они одинаково приемлемы, поскольку ни одна из них не является абсолютно истинной.
За пределами статьи мы оставили возможности и ограничения, связанные с использованием конвенционализма в эпистемологии, – они были выявлены и описаны рядом исследователей [7]. Целесообразно обратиться к тому, как установка на выработку соглашения «работает» в философии. История философии свидетельствует, что два философа, за редким исключением, никогда не соглашаются друг с другом. По мнению Р. Декарта, в философии «доныне нет положения, которое не служило бы предметом споров и, следовательно, не было бы сомнительным…» [8, с. 254]. Например, Платон «не заметил» Демокрита, Аристотель, в свою очередь, был не согласен с теорией идей Платона, Г. Гегель в лекциях «забыл» Н. Кузанского. Не поэтому ли И. Кант говорил, что в философии консенсус невозможен, спор образует суть философии? Значит, как бы ни интерпретировался критерий объективности полученного результата научного исследования, он мало применим к философским теориям.
Преодолевая значительные методологические трудности, А.Ф. Кудряшев и О.И. Елхова выделяют виды новизны: языковую, концептуальную и методологическую. Они приходят к выводу, что для философских исследований наиболее значима новизна концептуальная и методологическая, что в целом верно. Однако верно и следующее: когда автор для обоснования собственной концепции использует высказывания других, то программа «Антиплагиат» «бракует» этот текст. Здесь мы осознаем основную особенность философского исследования, не позволяющую однозначно оценить оригинальность текста даже представителям экспертного сообщества, не говоря уже о компьютерной программе. А.Ф. Кудряшев и О.И. Елхова таким образом трактуют концептуальную новизну философской работы: «Новизну следует искать не в новых формулировках старых мыслей, а в новых смыслах, которые могут быть приданы даже старым формулировкам» [9, с. 1489]. Чтобы понять всю дискуссионность данной позиции, нужно вспомнить, что дискурсивность мышления реализуется только в слове: «Мысль не выражается словом, но совершается в слове» [10, с. 306]. Это значит, что новые смыслы создаются именно новыми формулировками старых мыслей, как, например, «новое прочтение Шекспира».
Наконец, еще одним критерием новизны философского исследования в статье А.Ф. Кудряшева и О.И. Елховой названо наличие разработки и обоснования новой целостной концепции, теории . Действительно, философская новизна - это целостная концепция в той или иной предметной области. Однако даже если эксперты испытывают значительные и объективные затруднения в определении специфики философской проблематики, способов ее исследования и критериев состоятельности, то возникают сомнения в том, что программа «Антиплагиат» может отследить наличие или отсутствие целостной концепции. Алгоритм программы позволяет установить лишь наличие слов, фраз, встречающихся в других текстах.
Чтобы понять, насколько ограниченным, вспомогательным и инструментальным должно быть использование программных методов оценки оригинальности философского текста, нужно определиться со спецификой деятельности в философских исследованиях, а именно осознать, что в философской работе является открытием, а что творчеством. В чем состоит принципиальная разница между этими событиями? Ранее уже говорилось, что творчество связано с получением нового, неизвестного результата. Возникают вопросы: возможно ли это в философии; что принципиально нового может создать философ; какова природа философской новизны; совпадают ли творчество и новизна в философии; философия открывает или творит. Например, И. Кант открывает или творит? Если открывает, то философия похожа на науку, если творит, тогда она похожа на искусство. Или и то и другое одновременно?
В литературе можно прочитать следующее: «Открытым вкладом Л. Витгенштейна в философию ХХ в. стал разработанный им метод постановки и решения философских проблем». Хотя Л. Витгенштейн, как и другие классики философии, больше изобретали, творили, нежели открывали. Открыть можно то, что уже существует: «Открыть что-то - это значит прийти к чему-то упорядоченному» [11, с. 46], в частности внести стройность и меру в предметную область исследования, найти каждому элементу его место в системе. В свою очередь, создание новых концептов является уже творческим актом, как произошло в случае с лейбницианской монадой, кантовским априори, гегелевской абсолютной идеей и т. д.
Над вопросом о том, почему и как возможна новая мысль, размышляли многие философы. Относительно предмета философского творчества существуют разные мнения: настоящая философия, по мысли М.К. Мамардашвили, - всегда новация; по М. Хайдеггеру, результат философского творчества - новый поэзис, новый способ бытия языка; для Ж. Делеза итог философского творчества - новые концепты, умственные сущности. Несомненно одно - итогом философского творчества должно стать приращение смысла. У мыслителя нет ни привычной для физика лаборатории, где он может экспериментировать, ни производственного цикла, наблюдая за которым можно было бы почерпнуть что-то новое для себя. Как рождается новое в сфере чистого разума? Ясно, что мысли не появляются на пустом месте: человеческий разум обладает «потенциалом развертывания из себя самого», а философские тексты, как и иные, способны наращивать свое содержание, свои смыслы. Важно определить, из чего складывается искомый «прибавочный продукт» мысли, которого «не было» ранее.
Новые мысли - следствие встречи текста с контекстом, соприкосновения одной мысли с другой. Мысли живут только в сопряжении с другими мыслями: «В точке контакта текстов вспыхивает свет, освещающий назад и вперед» [12, с. 384]. Эксплицируя идею М.М. Бахтина, можно сказать, что смыслотворчество протекает в следующем порядке: идущее назад обращение к прошлым текстам (контекстам) и идущее вперед предвосхищение будущих контекстов. В результате - бесконечное рождение новых смыслов.
М.К. Мамардашвили вывел закон понимания философского текста, а следовательно, и механизм рождения новой мысли: мы должны суметь «воспроизвести сказанное в тексте (не слова, а сказанное в нем) как возможность нашего собственного мышления - в том смысле, что и мы можем это помыслить» [13, с. 79].
Чтобы «помыслить мысль Платона» и тем самым «выговорить» свою собственную истину, нужно суметь, во-первых, «привязать» платоновские мысли к своим (читательским) думам, «заставить» Платона говорить о своих (читательских) проблемах - у Платона это лучше получится, а также сделать «вкрапления» своих идей в платоновский текст, чтобы поднять собственные рассуждения до философского значения; во-вторых, приспособить («подогнать») платоновские термины для своих нужд, превратить их в свой инструментарий, наделяя новыми значениями. Наконец, нужно создавать новые контексты, мысленно погружаясь в разнообразные жизненные ситуации, культурные традиции и обнаруживая новые смысловые связи.
Сверхзадача состоит в том, чтобы, во-первых, «дотянуться» до мыслей Платона, во-вторых, оживить их через контекст своей исследовательской проблемы. Не запомнить слова платоновского текста, а понять то, что они означают, увидеть то, на что они указывают, тем самым превратить тексты Платона, как писал М.М. Бахтин, в «свое чужое», преодолевая «чуждости чужого без превращения их в чисто свое» [14, с. 392]. Так происходит приращение, приумножение смысла. На наш взгляд, «преодоление чуждости чужого» – допустимая степень подражания, заимствования, «без превращения его в чисто свое», граница, за которой – плагиат, или недобросовестное заимствование. Это и есть грамматика философского творчества, определяющая философскую новизну. Это верно и по отношению к науке: как отмечал К. Поппер, развитие познания заключается главным образом «в модификации более раннего знания» [15, c. 54].
Резюмируем сказанное: «соприкосновение» платоновского текста с контекстом читателя высвечивает и кристаллизирует новые мысли. Происходит переформатирование, модификация или импровизация идей классиков философии: «Не было ни одного великого мастера, который не подражал бы» [16, c. 145]. Можно эту идею встретить у многих авторов. Творить свое, разбираясь с другими авторами, – это прием, позволивший «показать иного Паскаля, иного Плотина, иного Толстого» [17, с. 6]. Выговорить собственную мысль – другого пути не существует, что доказывает, почему при совершении философского акта мышления невозможен плагиат: «Если помыслим, то мыслим то, что уже помыслено», следовательно, Р. Декарт будет похож на И. Канта, последний будет похож на Сократа и т. д. Читатель непременно пополняет этот ряд: в его лице появляется неизвестный до этого философ. В результате «трения» текста-оригинала с контекстом читателя случается акт философского мышления, что и дает приращение мысли, порождает новую концепцию. Однако здесь легко не заметить приращения мысли и уличить ее автора в заимствовании, чего не избежали даже классики философии. В плагиате были «уличены» и Р. Декарт, и Г. Лейбниц, и И. Кант, и Г. Гегель, и О. Конт. Природу этих подозрений и их несостоятельность проанализировал И.И. Лапшин: контекстуальное исследование заимствований произведений названных авторов показало, что обвинения в их адрес беспочвенны [18, с. 172–176]. Однако продемонстрированное И.И. Лапшиным отнюдь не означает, что работы классиков философии в программе «Антиплагиат» показали бы достаточную долю оригинальности, а сами мэтры философии могли бы претендовать на избрание по конкурсу на должность в современных российских университетах.
Сложность артикуляции критериев новизны философского исследования обнаруживает еще одну частную проблему. Одновременно с требованием высокой степени оригинальности завершенная работа должна положительно оцениваться членами экспертного сообщества. Более того, оппоненты, ведущая организация, даже авторы отзывов на автореферат (если речь идет о диссертации на соискание ученой степени) – обязательно специалисты по теме защищаемой работы. Возникает эффект ножниц: нечто принципиально новое, что может быть оценено имеющимися в этой области специалистами. Максимальное следование одному из данных условий, кажется, делает невозможным соблюдение другого. Между тем философское творчество «подчинено закону непрерывности» (И.И. Лапшин) и с необходимостью порождено всей предшествующей традицией. По словам М. Хайдеггера, как бы мы ни пытались мыслить, мы мыслим в пространстве действия традиций. Не усвоив традицию, мы не двинемся вперед, освоив традицию, мы взваливаем на плечи огромный груз, замедляющий наш шаг [19, с. 63]. По этой причине мы не можем создать ничего принципиально нового в философии. Здесь неизбежно «сомышление», «кровосмешание» (М. Хайдеггер).
Еще радикальнее об этом говорит М.К. Мамардашвили: «Закон устройства духа таков, что если мы в точности повторим чью-то мысль, то мы повторяем ее как другую мысль. В каком-то смысле точность повторения состоит в том, что создает другую мысль» [20, с. 440]. Дословное использование платоновских слов в своем, авторском, тексте-контексте придает им новые значения. Здесь мы вновь возвращаемся к проблеме порождения новой мысли в процессе поиска языка для повторения уже готовой, кем-то сформулированной. А.М. Пятигорский говорит: «Данная цитата не обосновывает и не подтверждает мою мысль, а сама ею является. Именно с позиции, моего мышления, она – не случайна» [21, с. 9].
Таким образом, новацию философского исследования можно определить как порождение новых смыслов, происходящее в момент обращения к прошлым текстам (контекстам), и дальнейшее предвосхищение будущих контекстов. Мера «присутствия» текста-источника в оригинальной работе описывается бахтинской формулой: преодоление «чуждости чужого» без превращения в чисто свое. Следовательно, применение технических средств оценки степени новизны философского исследования в аспекте как языковой оригинальности, так и концептуальной с необходимостью нуждается в специальном, человеческом участии. Значит, программу «Антиплагиат» нужно переориентировать, насколько возможно, на поиск нового смысла, присутствие оригинальной концепции, своего подхода, авторской позиции, а не на поиск имеющихся в литературе слов. Нужно исходить из того, что философская новизна – добавочный смысл, который получен тем или иным автором. Без специального сопоставления текстов-контекстов, проводимого экспертом в данной области наук, сфере и предмете исследования, практика повсеместного применения компьютерных программ оценки оригинальности философского исследования носит несовершенный характер. Мера этого несовершенства порой фатально сказывается на процедуре подготовки к публичной защите результатов философских исследований.
Список литературы Философская новация в контексте использования программы "Антиплагиат"
- Ракитов А.И. Философские проблемы науки: системный подход. М., 1977. 272 с.
- Кудряшев А.Ф., Елхова О.В. Новизна в философских исследованиях // Вестник Башкирского университета. 2014. Т. 19, № 4. С. 1489-1493.
- Декарт Р. Рассуждения о методе // Сочинения. В 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 250-296.
- Кудряшев А.Ф., Елхова О.В. Указ. соч. С. 1489.
- Бердяев Н.А. Творчество и объективация. Опыт эсхатологической метафизики // Царство Духа и царство кесаря. М., 1995. С. 163-286.
- Кудряшев А.Ф., Елхова О.В. Указ. соч. С. 1489.
- Васечко Е.Н., Капустин Н.С. Природа научных конвенций и специфика их функционирования в социально-гуманитарном познании // Философия права. 2013. № 4. С. 85-89.
- Клайн М. Математика. Утрата определенности / пер. с англ. Ю.А. Данилова. М., 1984. 446 с. ; Лебедев С.А., Коськов С.Н. Конвенционалистская эпистемология // Вестник Московского университета. Сер. 7: Философия. 2013. № 2. С. 13-34.
- Порус В.Н. «Радикальный конвенционализм» К. Айдукевича и его место в дискуссиях о научной рациональности // Рациональность. Наука. Культура. М., 2002. С. 204-216.
- Декарт Р. Указ. соч. С. 254.
- Кудряшев А.Ф., Елхова О.В. Указ. соч. С. 1489.
- Выготский Л.С. Мышление и речь. М., 1996. 416 с.
- Мамардашвили М.К. Картезианские размышления. М., 1993. 352 с.
- Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук // Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 381-393.
- Мамардашвили М.К. Картезианские размышления. С. 79.
- Бахтин М.М. Указ. соч. С. 392.
- Поппер К.Р. Предположения и опровержения: рост научного знания / пер. с англ. А.Л. Никифорова, Г.А. Новичковой. М., 2004. 638 с.
- Лапшин И.И. Философия изобретения и изобретение в философии: введение в историю философии. М., 1999. 399 с.
- Тесля А. Вступительная статья // Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. М., 2018. 312 с.
- Лапшин И.И. Указ. соч. С. 172-176.
- Гарин И.И. Что такое философия? Запад и Восток. Что такое истина? М., 2001. 752 с.
- Мамардашвили М.К. Лекции о Прусте. М., 1995. 552 с.
- Пятигорский А.М. Мышление и наблюдение: четыре лекции по обсервационной философии. СПб., 2016. 192 с.