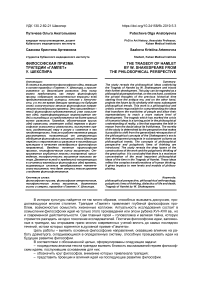Философская призма трагедии "Гамлет" У. Шекспира
Автор: Путечева Ольга Анатольевна, Саакова Кристина Артемовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье выявляются философские идеи, лежащие в основе трагедии «Гамлет» У. Шекспира, и прослеживается их дальнейшее развитие. Эту пьесу можно представить как некую философскую призму, собравшую мыслительные вершины всей предшествовавшей истории, начиная с Античности, и в то же время дающую проекции на будущее своей созвучностью многим философским направлениям последующего времени. Это произведение - некий философско-художественный узел осмысления идей, трансформирующих мировоззрение людей и выводящих их представления на более зрелый виток развития. Трагедия, обозначившая кризис идей гуманизма, знаменует собой перелом в философском осмыслении реальности, выступает гранью, разделяющей веру в разум и сомнение в его плодотворности. Новым в работе является ракурс рассмотрения, позволяющий от ретроспекции обобщения философских концепций эпохи Шекспира перейти к перспективе их развития в последующих культурах в качестве своеобразных философских направлений. Введены понятия «философская призма», «полифонические линии мышления». Открываются глубинные пласты построений произведения, полифоничность мышления великого автора. Делается вывод о предельной концентрации в сочинении важнейших философских идей времени, выражающих сложные преобразования человеческого мышления, что дает импульс новым уровням и моделям философствования.
Философская призма, философская антропология, полифонические линии мышления, диалектика жизни и смерти, трагедия "гамлет" у. шекспира
Короткий адрес: https://sciup.org/149133975
IDR: 149133975 | УДК: 130.2:82-21 | DOI: 10.24158/fik.2019.5.3
Текст научной статьи Философская призма трагедии "Гамлет" У. Шекспира
В истории культуры найдется не так много образов, способных вызывать дискуссию, продолжающуюся многие столетия. Трагедия «Гамлет» привлекает глубиной философских проблем, возможностью осмыслить жизненные коллизии. Актуальность исследования состоит в осмыслении философских идей не только этого произведения или эпохи рубежа XVI–XVII вв., но и современной действительности. Сам главный герой – головоломка и великая тайна, которую стремится разгадать не одно поколение исследователей. Постигая философские идеи, заложенные в трагедии, мы открываем грани многих современных учений вплоть до самых последних течений, истоки которых коренятся в духовной призме «Гамлета».
Цель работы – выявить основные философские направления, оказавшие влияние на работу драматурга, складывающиеся в определенную систему, способную проецировать идеи на будущее развитие философии.
В соответствии с обозначенной целью, сформулированы следующие задачи:
-
– посредством анализа текста трагедии выявить близость высказываний героев философским идеям, послужившим основанием для них;
-
– обозначить круг философов, внимание которых привлекала трагедия;
-
– представить проекции и влияния идей на последующее развитие философии.
В работе произведены сравнение идей, высказываний, умозаключений действующих лиц, проецирование концепций на будущие известные философские доктрины.
К исследованию трагедии Шекспира обращались в основном филологи, историки литературы, при этом мало работ философов, посвященных анализу антропологических проблем и предельных вопросов бытия, звучащих в данном произведении. С точки зрения философского осмысления трагедия «Гамлет» – малоизученное произведение, понимание его оригинальной философской концепции отсутствует до сих пор. «…Шекспировская трагедия представляет собой не что иное, как сатирическую мениппею – литературную форму повышенной сложности, законы которой ныне современными литераторами (за редчайшими исключениями) не используются» [1, с. 187–188].
Творчество Шекспира в целом и «Гамлет» в частности представляется некой философской призмой, в которой концентрируются многие проблемы, поставленные мыслителями прошлых эпох, и предвосхищаются, намечаются идеи последующих философских направлений вплоть до ХХ и XXI вв. Основные темы трагедии звучат необычайно актуально, главный герой воспринимается как наш современник. При этом каждая эпоха, изучающая пьесу с точки зрения глубины ее концепций, открывает созвучные, актуальные мысли.
Чем оригинальна философская концепция «Гамлета»? Это уникальное по форме и содержанию произведение, отличающееся особым синкретизмом, данным в предельной слитности, со-прикасаемости многогранных черт, переходящих одна в другую; универсализмом, соотносимостью с чертами любой эпохи; художественностью изложения глубоких философских идей, предстающих как особый род драматического повествования, устроенного по типу взаимоотражающихся зеркал.
Гамлет – великий мыслитель, сосредоточивший в себе мудрость предшествующих веков. В его высказываниях обнаруживаются идеи, созвучные многим философским системам. Из раздумий над собственными жизненными коллизиями он извлекает подлинно философские обобщения. Главная проблема его размышлений – суть человека, его мыслимые глубины, вопросы жизни и смерти, нравственность, добродетель, совесть, поиск того, что стоит за реальным поведением человека, стремление решить философскую дилемму кажущегося и реального, видимости и сути – все, что невозможно объять разумом одного человека, но обнаруживается в сплетении концепций многих мыслителей.
Роль Гамлета трудна тем, что во всех его сентенциях просвечивает глубокая мудрость веков, начиная от Античности, трансформирующей мифологию, и заканчивая проблематикой наших дней. Каждое его слово – мысль, за каждой фразой – концепции, которые необходимо расшифровывать. Развитие трагедии строится так, что одно действие с неумолимой силой логики вытекает и связано с другим, каждый следующий шаг возможен только в осмыслении предыдущего и зависит от самого мыслящего, выбирающего решения и самостоятельно действующего.
Древний мудрец сказал: «Если человек не знает вещей обычных – он животное…» В трагедии развернута картина «животной» жизни, которая с легкостью поглощает все большее и большее число действующих лиц. На фоне этой приземленной жизни мы видим уровни возвышения над ней, иерархически устремленные к вершине мудрости и духовности – к самому Гамлету.
В этом отношении его учителями являются античные авторы Платон и Плутарх [2, р. 401], в трудах которых много мифологических обобщений, в том числе связующая нить сказаний об Оресте – мстителе за честь отца. «Обилие мифических аллюзий, присутствующих почти во всех произведениях У. Шекспира, свидетельствует о продолжающемся культурном взаимовлиянии греческой и римской мифологий в тот период, когда он писал» [3].
В чем же обнаруживается это определяющее влияние? Прежде всего в опоре на моральнонравственные принципы. «Плутарх, которого Шекспир знал в английском переводе Томаса Норта, казалось, был лучшим советчиком в этом трудном деле. <…> У него есть твердые, незыблемые принципы, в основании которых лежит вера в нравственный миропорядок. Он глубоко убежден, что мораль всевластна и всесильна и что в сознательном подчинении долгу смертные могут найти достаточное утешение при каких угодно жизненных превратностях» [4, с. 187].
Одним из первых о моральных нормах говорил Сократ. Его моральная философия – краеугольный камень всех последующих гуманистических концепций, позиционирующих себя диаметрально противоположно древним обычаям прошлого «око за око, зуб за зуб» и кровной мести.
Мировоззрение Гамлета как человека эпохи крушения системы идей Ренессанса близко философии стоицизма, сформировавшейся также во время духовного кризиса.
Представления о высоком предназначении человека, его нравственности, чести, достоинстве достигают апогея в эпоху Возрождения. Многие философские труды этого времени посвящены воспеванию величия человека.
Обобщая идеи Возрождения, Шекспир делает акцент на его гуманных основах, направленности, сути и смысле. Мыслитель открывает все более могущественные способности человека, проникая в его душу, анализируя мысль, позволяющую ему строить жизнь и судьбу на основе своего разума и интеллекта. В этом отношении Гамлет выступает как личность ренессансная, деятельная. Он мыслью проникает сквозь видимость до самой сути, что становится программой его жизни.
Одна из важнейших философских проблем – вопрос о добродетели, который поднимает Гамлет, обращаясь к Офелии: «Добродетельны ли вы?» Что стоит за этим понятием, каковы те человеческие добродетели, на которые он рассчитывает? Честность, справедливость, милосердие, искренность, целомудрие, воздержание – какие из них можно отнести к главным действующим лицам трагедии? Ни один персонаж не может с полной уверенностью сказать, что обладает ими. Душевные терзания Гамлета во многом связаны с противостоянием превозмогающим силам зла, выраженным в инстинктах и страстях. Он понимает добродетели как душевные качества, вырастающие из законов разума, пытаясь логически обосновать свой путь к счастью. Но чем глубже постижение сути жизни, тем она становится тяжелее и обременительнее.
Именно в эпоху Возрождения человек осознал себя свободной личностью. Но свобода – это и выбор, и ответственность, и возможность ошибки. Возрожденческая личность действенна, но, чтобы действовать, необходим план действий, а следовательно, размышление. Размышление – это внутренний спор с самим собой и последующий выбор.
Все действующие лица даны Шекспиром в диалектике и внутренней противоречивости. Правдивость и жизненность действующих лиц создается именно в их внутренней трансформации, раздвоении образа, подверженности колебаниям, что определяет их развитие. Театр, как явно показал Шекспир, был своеобразным отражением не только действительности, но и образа мышления человека того времени, который мыслил, видел себя всемогущим, сильным и в то же время способным обмануться. Мышление дано человеку, чтобы открывать то, что не лежит на поверхности, отличать правду от лжи и разоблачать ложь.
«Метафора театра выражена в трагедии в образе зеркала, в котором персонажи видят свое отражение. Театральные постановки героев пьесы как бы наведены друг на друга, как зеркала. Один персонаж отражает другого в разных подобиях. “Мышеловка” отражает Клавдия в прошлом. Клавдий отражает Гамлета в будущем – как убийцу чужого отца. Природа Гамлета – человека Возрождения – универсальна. Он антропологический Бог трагедии. <…> Сюжет шекспировского “Гамлета” – борьба между Убийцей и Мстителем. Арена борьбы – душа Гамлета. Его душа – поле сражения между добром и злом, между благородством и преступлением» [5, с. 211].
Именно в ситуации крушения рушащегося мира, ощущая море бедствий и страданий через столкновение с жестокостью мира, неотвратимостью судьбы, главный герой сосредоточивается на своем внутреннем мире, желая уйти от мерзости жизни. Через сомнение, смятение, отчаяние он приходит к решимости действовать и поднять оружие. Проницательный взгляд, логика в осмыслении видимого ведут не к процветанию, а к пессимизму. Череда смертей близких оставляет глубокий след в душе – сострадающей не только за себя, но и за весь безумный мир. Гамлет – дитя Ренессанса, в глубине его души как идеал сохраняются гармония, ясность представления о величии человека, и в то же время он поглощен мыслью о смерти и пределе человеческого бытия.
Трагическое начало предельно сгущает мрак вокруг главного героя и втягивает его в чужую среду, отсюда движение от ренессансной ясности, гармонии к асимметрии, конфликтам и гибели. Гамлет преодолевает стоическое бездействие, мнимое равнодушие к семейным и государственным делам в напряженнейшей мыслительной работе и деятельности. Грань перелома в судьбах мира проходит через духовный мир Гамлета, поднимающего оружие против «моря бедствий», отвечающего тем самым на вызов мира и времени.
В трагедии сосуществуют два диаметрально противоположных принципа – архаическая идея справедливого возмездия и нарождающиеся элементы новых моральных принципов. Гамлет – герой не только ренессансного перелома, но и духовного переворота, принимающего высокие морально-нравственные принципы и человеческие гуманные добродетели. Но в том и заключаются сложность выбора и великое затруднение эпохи, что защищать новое мировоззрение приходится старыми средствами, далекими от становящихся моральных ценностей. Желая истребить зло, он сам совершает цепь несправедливостей.
«В “Гамлете” ясно вырисовывается юридико-этический конфликт. Мы видим тут столкновение двух правовых взглядов на кровавую месть: древнего правового воззрения, по которому кровавая месть есть дело не только дозволенное, но и заслуживающее похвалы, и позднейшего этико-правового взгляда, по которому кровавая месть не должна быть допустима как явление, не соответствующее целям организованной государственной жизни, и вступает в противоречие с новейшим государственным принципом…» [6, с. 59–60]. Душевные терзания связаны во многом с противоречием требований старинного права кровавой мести, идущих от отца, родителей, рода, и новых принципов, выразителем которых является Гамлет, основанных на морально-нравственных установках.
Образ Гамлета привлекал создателя диалектической концепции мира – Г.В.Ф. Гегеля, который в своем большом труде по эстетике рассматривает эволюцию главного героя как диалектику внешнего и внутреннего мира [7, с. 239–240]. Художественная форма трагедии скрывает острую борьбу идей, взглядов, философских концепций того бурного времени. Историко-политический фон Англии XVI–XVII вв. наполнен ужасами междоусобных войн, перипетиями борьбы за власть, страданиями простых людей.
Отражением бурных событий эпохи был острый конфликт идей, мнений, умонастроений, что отразилось на внутренней духовной жизни человека. Одним из самых знаменитых деятелей того времени был итальянский мыслитель и политический деятель Н. Макиавелли, оказавший влияние не только на современников, но на многие концепции будущего.
«Кид, Марло и Шекспир выводят на английскую сцену первых “макиавелей”, безоговорочно развенчивая их в качестве положительных героев нового времени... <...> Как бы то ни было, а шекспировский король Клавдий во всех основных моментах восходит именно к типу злодея-“ма-киавеллиста”, представленному Т. Кидом в образе дона Лоренцо, испанца с итальянским именем (тем самым, которое значится в посвящении трактата Макиавелли “Государь”). Разве что Клавдий еще более “итальянизирован” в сравнении с Лоренцо, поскольку это злодей-отравитель по преимуществу» [8, с. 73].
Идеи Макиавелли, оказавшие огромное влияние на развитие философии, были восприняты враждебно в Англии как безнравственные. Здесь даже сформировался тип театрального амплуа «макиавель». В то же время другое философское учение французского ученого и мыслителя М. Монтеня разделяли и поддерживали самые передовые деятели.
В этом смысле можно вести речь о «духовной близости» Монтеня и Шекспира. По целому ряду вопросов (о болезни общества, политике, эстетике, народе) их взгляды совпадают, что приводит к выводу о возможности их использования в произведении. Многие идеи мыслителя Шекспир вложил в уста главного героя, придавая ему черты философа, анализирующего законы мироздания, человеческого мышления, что становится основой понимания душевной жизни человека.
Гамлет - человек долга и совести. Он мог бы сказать словами Канта: «Долг! Ты возвышенное, великое слово. <...> Это может быть только то, что возвышает человека над самим собой...» [9, с. 413]. Долг как императив требует от него выполнения взятых на себя обязательств перед отцом, собой, родом, предками. Моральный закон открывает жизнь, независимую от животной природы и даже от всего чувственно воспринимаемого мира.
Трагедия Шекспира написана на переломной точке развития Возрождения, когда возникают ноты пессимизма, растерянности, разочарования в возможностях разума. Разум не дает свободы и легкости в этой жизни. Знание обременяет мышление тяжестью осмысления противоречий жизни. Противоречия Гамлета внутренние - порыв, устремленность, поиск моральных основ добродетели и недостижимость ее, невозможность в мире зла и насилия. Его отличия от окружения - иной моральный уровень понимания духовной жизни человека, ведь он отличается не только плотью, но и духом, волей, своей правдой.
В начальном монологе Гамлет мечтает «сгинуть», испариться, «стать росою», т. е. покончить жизнь самоубийством. Но страх того, что после смерти, за ее чертой, останавливает порыв. Так, обретая решимость, Гамлет приходит к выводу о необходимости действовать и восклицает: «О мысль моя, отныне будь в крови, // Живи грозой иль вовсе не живи!» [10, с. 234].
Многочисленные философские вопросы, поднимаемые в трагедии, можно сгруппировать в три блока: что есть жизнь; в чем противоречие жизни и смерти; что такое судьба и осмысление ситуативности жизни. Это по существу антропологические вопросы, касающиеся человечества и человека как отдельной личности.
Связующие духовные нити протянулись от идей, зачинателем которых является Гамлет, к Ф. Ницше, так как первым разочаровавшимся в рационалистических идеалах устройства жизни и мира был герой трагедии Шекспира, а кульминации данный процесс достиг, когда была создана концепция воли к могуществу (Ницше).
На протяжении линии развития Гамлет теряет веру в устойчивость человеческих идеалов («отец убит, и мать осквернена» [11]), разрушаются мечты и мир грез. Главное ощущение - неустойчивость мира, падение духовности и морали, гибель веры в великие силы и способности человека.
Шекспир - гениальный мыслитель, предвещавший крутой поворот философских оснований эпохи от творческой целеустремленности, целостности мировидения к разочарованию в метафизических ценностях, потере жизненной основы и душевной пустоте. Мир в трагедии предстает в двойственности и противоречивости: с одной стороны, необходимость действовать (Гамлет ругает себя за бездейственность и леность), а с другой - чувство бесполезности, бессмысленности мира.
«Быть или не быть» - сложнейший философский монолог, смысловые траектории которого сплетены в тугой узел противоречий. Его сущностная основа - выражение болезни духа, что предстает как сомнение, постоянные колебания, противоречия. «Артур Шопенгауэр в своих насквозь пессимистичных “Афоризмах житейской мудрости” часто идет по тем вехам, которые оставил Шекспир в этом прочувствованном монологе принца» [12, с. 12].
Наряду с пессимизмом, разочарованием, присущими Шопенгауэру, формируется идея бессмысленности, абсурдности мира, которая найдет претворение в философии экзистенциализма.
Ноты пессимизма переводят нас к осмыслению вопросов антропологического характера о диалектике жизни и смерти, их вечном противоречии и одновременном присутствии в этом мире.
Не абсурдно ли сражаться за клочок земли, пучок соломы, не абсурдно ли бездействовать, «смотреть на двадцать тысяч обреченных» [13, с. 233], гибнущих зря по повелению господ.
«Трагедия, как бы парадоксальна она ни была для общепринятого понимания жанра, – это даже не сама смерть. Все это пустяки по сравнению с истинным страданием пьесы – страданием существования. Эта “тоска” возникает из осознания персонажами своей экзистенциальной ответственности и того, что их действия – это все, что существует в физическом мире» [14].
Устами Гамлета автор говорит о великом даре человеку – его интеллекте. Люди разделяются на тех, кто знает, для чего живет, и не осознающих себя, ощущающих себя ненужными. «Отчаяние связано с ощущением абсурдности мира и человеческой жизни, которая неизбежно заканчивается смертью. Для Гамлета еще не существует понятия “абсурд”, но мысль об абсурде уже есть: “Мир вывихнут” (в этом мире погибают лучшие – отец; и процветают негодяи – Клавдий)» [15, с. 71].
Высота помыслов главного героя еще и в том, что он способен думать не только о себе, но и в глобальных масштабах – об обществе, государстве, истории и связи эпох: «Век расшатался – и скверней всего, // Что я рожден восстановить его!» [16, с. 40]. Глубокий смысл заложен в этих словах и направленности усилий Гамлета на восстановление мирового закона и гармонии. Так, Гамлет становится связующим звеном эпох, мировоззрений и поколений. Связь не распалась, жизнь диалектична и магична в призме философских антитез.
Полагаем, что Шекспир в трагедии «Гамлет» проявил себя как крупнейший философ-антрополог, представивший уникальную по концентричности и синкретичности, органично развивающуюся философскую концепцию в яркой высокохудожественной форме. Шекспир не только всесторонне представил природу человеческого духа, но показал период его кризисного состояния, завершающегося катастрофой.
Диалектика развития многослойного, многоуровневого произведения выстраивается во взаимодействии полифонических линий мышления в предельной сжатости и концентрированности идей. Можно сказать, что каждое время – это ступень в разгадке философской тайны произведения. Ее удивительное свойство в том, что каждый раз она открывается новой гранью, выявляя свою философскую глубину, способствуя развитию культуры мышления, самосознания, этики и нравственности.
Трагедия Шекспира вобрала в себя духовный опыт многих веков философского развития. Это призма, проецирующая, предвосхищающая развитие философии в будущих ее формах. Интерпретация классики – это еще и выражение собственного видения и собственных идей, помогающее глубже понимать действительность.
Ссылки:
-
1. Козминиус (отец), Мелехций (отец). Шекспир. Тайная история. СПб., 2003. 576 с.
-
2. Chambers E.K. William Shakespeare. A Study of Facts and Problems. Vol. 1. Oxford, 1930. 645 p.
-
3. Gray E. A 16th Century Ovid: The Influence of Classical Mythology on the Understanding of Shakespeare’s Plays
[Электронный ресурс] // Inquiries Journal. Social Sciences, Arts, & Humanities. 2017. Vol. 9, no. 2. URL: http://www.inquir- iesjournal.com/articles/1545/a-16th-century-ovid-the-influence-of-classical-mythology-on-the-understanding-of-shake-speares-plays (дата обращения: 18.03.2019).
-
4. Шестов Л. «Юлий Цезарь» Шекспира // Иностранная литература. 1990. № 6. С. 187–192.
-
5. Пимонов В., Славутин Е. Загадка Гамлета. М., 2001. 256 с.
-
6. Колер Й. Шекспир с точки зрения права (Шейлок и Гамлет) : пер. с нем. 2-е изд. М., 2006. 160 с.
-
7. Гегель Г.В.Ф. Эстетика : в 4 т. : пер. с нем. / под ред. и с предисл. М. Лифшица. Т. 1. М., 1968. 312 с.
-
8. Микеладзе Н.Э. Шекспир и Макиавелли: тема «макиавеллизма» в шекспировской драме. М., 2005. 492 с.
-
9. Кант И. Критика практического разума // Сочинения : в 6 т. Т. 4, ч. 1. М., 1965. С. 312–501.
-
10. Шекспир У. Трагедии / пер. Б. Пастернака. СПб., 2017. 669 с.
-
11. Там же. С. 234.
-
12. Горохов П.А. Наш современник принц датский (философская проблематика трагедии «Гамлет») // Вестник Оренбургского государственного университета. 2005. № 7. С. 8–14.
-
13. Шекспир У. Трагедии. С. 233.
-
14. Hayes C.R. The Psycholinguistic Semiotics and Metanormative Ethics of Suicide and Death in Shakespeare’s King Lear [Электронный ресурс] // Inquiries Journal. Social Sciences, Arts, & Humanities. 2017. Vol. 9, no. 5. URL: http://www.inquir- iesjournal.com/articles/1641/the-psyscholinguistic-semiotics-and-metanormative-ethics-of-suicide-and-death-in-shake-speares-king-lear (дата обращения: 18.03.2019).
-
15. Татаринова Л.Н. Гамлет и Дон Кихот в западном экзистенциализме // Гамлет и Дон Кихот в русской и зарубежной словесности. (К 400-летию со дня смерти Мигеля де Сервантеса и Уильяма Шекспира) : материалы международной научно-практической конференции. Краснодар, 2016. С. 70–73.
-
16. Шекспир В. Полное собрание сочинений : в 8 т. Т. 6 / пер. М. Лозинского. М., 1959. 698 с.
Список литературы Философская призма трагедии "Гамлет" У. Шекспира
- Козминиус (отец), Мелехций (отец). Шекспир. Тайная история. СПб., 2003. 576 с.
- Chambers E.K. William Shakespeare. A Study of Facts and Problems. Vol. 1. Oxford, 1930. 645 p.
- Gray E. A 16th Century Ovid: The Influence of Classical Mythology on the Understanding of Shakespeare's Plays [Электронный ресурс] // Inquiries Journal. Social Sciences, Arts, & Humanities. 2017. Vol. 9, no. 2. URL: http://www.inquiriesjournal.com/articles/1545/a-16th-century-ovid-the-influence-of-classical-mythology-on-the-understanding-of-shakespeares-plays (дата обращения: 18.03.2019).
- Шестов Л. «Юлий Цезарь» Шекспира // Иностранная литература. 1990. № 6. С. 187-192.
- Пимонов В., Славутин Е. Загадка Гамлета. М., 2001. 256 с.
- Колер Й. Шекспир с точки зрения права (Шейлок и Гамлет): пер. с нем. 2-е изд. М., 2006. 160 с.
- Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т.: пер. с нем. / под ред. и с предисл. М. Лифшица. Т. 1. М., 1968. 312 с.
- Микеладзе Н.Э. Шекспир и Макиавелли: тема «макиавеллизма» в шекспировской драме. М., 2005. 492 с.
- Кант И. Критика практического разума // Сочинения: в 6 т. Т. 4, ч. 1. М., 1965. С. 312-501.
- Шекспир У. Трагедии / пер. Б. Пастернака. СПб., 2017. 669 с.
- Горохов П.А. Наш современник принц датский (философская проблематика трагедии «Гамлет») // Вестник Оренбургского государственного университета. 2005. № 7. С. 8-14.
- Шекспир У. Трагедии. С. 233.
- Hayes C.R. The Psycholinguistic Semiotics and Metanormative Ethics of Suicide and Death in Shakespeare's King Lear [Электронный ресурс] // Inquiries Journal. Social Sciences, Arts, & Humanities. 2017. Vol. 9, no. 5. URL: http://www.inquiriesjournal.com/articles/1641/the-psyscholinguistic-semiotics-and-metanormative-ethics-of-suicide-and-death-in-shakespeares-king-lear (дата обращения: 18.03.2019).
- Татаринова Л.Н. Гамлет и Дон Кихот в западном экзистенциализме // Гамлет и Дон Кихот в русской и зарубежной словесности. (К 400-летию со дня смерти Мигеля де Сервантеса и Уильяма Шекспира): материалы международной научно-практической конференции. Краснодар, 2016. С. 70-73.
- Шекспир В. Полное собрание сочинений: в 8 т. Т. 6 / пер. М. Лозинского. М., 1959. 698 с.