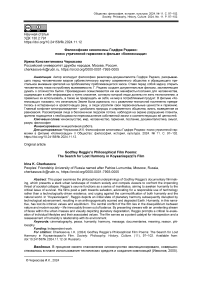Философские кинопоэмы Годфри Реджио: поиск утраченной гармонии в фильме «Коянискацци»
Автор: Черкасова И.К.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 11, 2024 года.
Бесплатный доступ
Автор исследует философию режиссера-документалиста Годфри Реджио, раскрывающего перед человеческим взором урбанистическую картину современного общества и обращающего пристальное внимание зрителей на проблематику приближающегося хаоса. Ставя перед собой задачу открыть человечеству глаза на проблему выживаемости, Г. Реджио создает документальные фильмы, заставляющие думать о сложностях бытия. Произведения осмысливаются им как манифесты-послания для человечества, содержащие в себе информацию о путях спасения, согласно которой люди должны не жить технологиями, а правильно их использовать, а также не превращать ни себя, ни мир в потребляемый продукт. В фильме «Коянискацци» показано, что изначально Земля была идеальна, но с развитием технологий постепенно превратилась в истерзанную и кровоточащую рану, а люди утратили свои первоначальные ценности и гармонию. Главный конфликт кинопроизведения - дисбаланс природы и современного общества, жизнь, выведенная из равновесия. Рассматривая лица в бесконечном людском потоке, наблюдая на экране разрушение планеты, зрители подводятся к необходимости переосмысления собственной жизни и соответствующих ей ценностей.
Киноискусство, мир, человечество, гармония, послание, документалистика, смысл, разум, философия
Короткий адрес: https://sciup.org/149147069
IDR: 149147069 | УДК: 130.2:791 | DOI: 10.24158/fik.2024.11.12
Текст научной статьи Философские кинопоэмы Годфри Реджио: поиск утраченной гармонии в фильме «Коянискацци»
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия, ,
Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Moscow, Russia, ,
Спустя годы, на фоне появившихся возможностей, возникла потребность «другого», духовного поиска в документальных фильмах. В этом контексте следует сказать, что искусство всегда изменяется. Согласно мнению Б. Эйхенбаума, в разные эпохи различные его разновидности стремятся стать массовыми, вдохновляются пафосом синкретизма, стремясь поглотить в себе элементы других искусств (Эйхенбаум, 2001: 16). Слияние несопоставимых образов в синкретических формах достаточно точно характеризует развитие киноискусства.
Эксперименты в документальных картинах начинал с особой порывистостью и энтузиазмом Дзига Вертов, применяя принципиально новые подходы, методы, что впоследствии повлияло на моделирование киносъемочного процесса. Таким образом, все документальные фильмы, созданные с начала ХХ в., приобрели особую кинематографическую сущность, составив онтологический фундамент для всей документалистики. Основные аспекты ее философии заключаются в принципах поиска реальности, установлении структуры проникновения в истину, конструирования перемещения во времени и пространстве, о способах познания мира, о синтезе движения. Точно выразился Ю. Лотман о познании сквозь призму кинематографа: «Для того чтобы превратить достоверность кинематографа в средство познания, потребовался длительный и нелегкий путь» (Лотман, 1973: 7). Действительно, именно документальное кино является важным инструментом познания и передачи смыслов.
Режиссер Годфри Реджио – уникальный мастер создания документальных фильмов. Он создал кинотрилогию, где вместо привычного нарратива используется вся мощь визуального ряда и музыкального сопровождения для выполнения сверхзадачи – актуализации сложных концепций эмоций зрителя, минуя словесные формы. Это «Каци» – философская кинопоэма, поднимающая острые вопросы современности, в которой посредством кинематографических средств формируется некий образ в пространственно-временном континууме для передачи проблемного поля человеческого существования.
Вдохновленный на творчество произведениями Д. Вертова, Г. Реджио все же практически полностью отказался от его взглядов, однако с оглядкой на использованные им концепты в своем кино продемонстрировал жизнь во всех ее формах1. Противопоставления, идеи, заложенные в триптихе и свидетельствующие о том, что мир очень хрупок и может быть легко разрушен, демонстрируют, какие абсурдные вещи могут соседствовать в жизни и кино. Например, на фоне действующей атомной электростанции в озере купаются дети, и это кажется на экране очень страшным. Для режиссера было очень важно вызвать шок у зрителей, и сквозь года договорить то, что не сказал и не показал Д. Вертов. Несомненно, творчество Годфри Реджио стало знаковым явлением в мировой документалистике. Создавая свои особые картины, режиссер сконцентрировал в них всю свою душевную суть и направил для поиска новых выразительных возможностей в кинодокументалистике, впитав в себя уже существующие революционные сочетания мастерства в киноискусстве и осмыслив все эти деяния в молитвах. Тем удивительнее раскрываются для человечества его фильмы с их соприкосновенностью, с репрезентацией ключевых вопросов жизни. Сложное происхождение как результат смешения множества кровей у Г. Реджио создало предпосылки для отождествления себя с человеком мира, понимающим сущность людской природы. В детстве, испытывая трудности и страхи обучения в католической школе, Г. Реджио впитал все особенности принятого в ней воспитания. Он был зависимым от них, поэтому ушел в монастырь, где и провел долгие четырнадцать лет, живя в иной системе координат. По сути, он сбежал от реального мира середины ХХ в. в прошлое, в иное измерение.
Интересно осмыслить диалог Сократа для понимания внутренней интенции души режиссера, направленной на поиск и смысл утраченного выбора: «В сократовском диалоге есть два лица, для которых истина и знание не даны в готовом виде, а представляют собой проблему и предполагают поиск» (Кессиди, 1976: 61). Вот эту проблему обретения смысла через испытания отразил впоследствии Г. Реджио в своих документальных картинах, которые обеспечивают больше, чем просто восприятие информации, они способствуют восстановлению утраченной гармонии человека с миром.
Во время пребывания в монастыре Г. Реджио, отрешенному от мира в посте, трудах и молитвах, открылись сокровенные тайны бытия. Тишина дарит образы, привносит изменчивость в сознание. У Хосе Ортеги находим интересную метафору: «Наше восприятие и мышление схватывают изменчивое лучше, чем постоянное» (Ортега-и-Гассет, 1991: 207). Это говорит о том, что вся философская инерция Г. Реджио формировалась на протяжении его изменчивой жизни: переосмысление того, что мы видим вокруг, может в качестве результата привести нас к совсем иному значению. Эффект возбуждения от увиденного в другой реальности сходится в «точке плавления» и впечатывается в человеческое сознание независимо от времени и места. Г. Реджио искал черты божественного проявления во всем, вглядываясь в пространство свозь свою метущуюся душу. В диалогах Платона находим подтверждение нормальности этого состояния: «Душа всего более походит на божественное, бессмертное, умопостигаемое, однородное, неразрушимое, всегда неизменное в самом себе» (Платон, 2018).
Неслучайно в дальнейшем режиссер работал с трудными подростками, отказался от религиозной деятельности, обратившись к философии и встроив ее в свою собственную линию жизни. В процессе самопознания Г. Реджио обращался к миру не через дискурсивный разум, а посредством особой рефлексии, основанной на чувственном и интуитивном восприятии.
Трансформация жизненного пути, понимание истинных причин существования, поиск Бога вне церкви и религии привели Г. Реджио к единственной форме реализации себя – в искусстве кино. Познание пришло к Г. Реджио посредством его жизненного опыта, стало результатом его глубинного погружения в бытие. Он искал смысл жизни во всех ее проявлениях, вещах и событиях, интегрировав свое сознание в единую целостную картину разума, постижения и осознания самого себя. Сменив монашескую рясу на кинокамеру, Г. Реджио ворвался в новый и неожиданный для себя мир кино, который оказался для него намного сложнее и запутаннее. Пространство видимости становится сценой, где разыгрывается драма человечества, где каждое событие для Г. Реджио стало мельчайшим отрезком времени; взаимодействуя, причудливо смешиваются мысли, созвучные явлениям природы, яркие и мощные по силе впечатлений и переживаний. Пройденный им путь режиссера был тернистым, это и определило отстраненность, отчуждение и уникальность фильмов Г. Реджио. Не имея профессионального образования, он все же смог воплотить в жизнь свои идеи, желания и веру, поместив в горизонт видимого кадра свои мысли, чувства через визуальные образы, не прибегая к словам. Определенная система мира, запечатленная в них, подталкивает и побуждает зрителей к размышлениям о смысле жизни, стимулируя искать ответы не только в повседневности, но и в глобальных событиях.
Взяв за отправную точку общество потребления, Ж. Бодрийяр в работе «Прозрачность зла» обращает пристальное внимание на современное общество, в котором есть пустота и нет смысла. В нем произошли перемены, все стало прозрачным, даже некогда утопические идеалы обрели реальность и доступность: «Мы живем в постоянном воспроизведении идеалов, фантаз-мов, образов, мечтаний, которые уже присутствуют рядом с нами, которые нам, нашей роковой безучастности, необходимо возрождать снова и снова» (Бодрийяр, 2000: 8).
Иначе говоря, все в современном мире стало доступным, понятным и утратило ту изначальную ценность, которую человечество взрастило и пронесло сквозь века. Ж. Бодрийяр полагает, что именно прозрачность и несет угрозу человечеству, поскольку воспринимается как нечто другое: «Отныне абсолютную угрозу несет себе прозрачность того, что воспринимается нами как Другой. Коль скоро Другой, как зеркало, как отражающая поверхность, исчез, самосознанию угрожает иррадиация в пустоте» (Бодрийяр, 2000: 180).
Люди становятся создателями ценностей, которых не замечают, они не развивают, а только утрачивают. Слепота и пустота способствуют продлению Другого. Это существо новое, техническое, поглотившее разум человеческий, оно рождается не от только недавно возникшей формы обмена, а от исчезновения отличий: «Это тот другой, что появляется после гибели Другого, это уже не есть то, что было прежде. Это результат отрицания Другого» (Бодрийяр, 2000: 185). Нет истины, нет правды, нет реальности в этом мире потребления.
Стоит отметить, что Г. Реджио отличается от многих представителей кинодеятельности своей инаковостью и провоцированием зрителя на размышление о смысле жизни. Сам режиссер, говоря о своей философии, отмечает, что в ХХ в. открылся ящик Пандоры, и человечество столкнулось с множеством вызовов, одним из которых стало утрачивание языков как таковых, что уже ведет к потере культурного кода, уступая место символам и образам; теряется привычный образ жизни; каждый человек живет в своей собственной реальности и становится подчиненным. Мировой сдвиг произошел, и человечество оказалось в расщелине экзистенциального зазора – между старым и новым миром, в состоянии неопределенности. Г. Реджио стал проводником в пространство киноискусства и посредством своей веры и философии сотворил видовые полнометражные картины с такой динамикой и содержанием, что их мощная преобразующая и смыслообразующая сила способна «пробудить» человека.
Документальное кино выступает своеобразным многослойным, транслирующим и регистрирующим онтологические вопросы бытия жизни объектом. Что знает человек о себе? Истина жизни и ответы на многие вопросы обретают особую значимость благодаря своему субъективному восприятию и объективной реальности.
На эти животрепещущие вопросы находим ответ у К. Ясперса: «Человек всегда больше того, что он знает о себе. Он не одинаков во всех случаях, он есть путь; не только существование, установленное как пребывание, но и имеющаяся в нем возможность, даруемая свободой, исходя из которой человек еще в своем фактическом действовании решает, что он есть» (Ясперс, 1991: 378).
Результаты . Обратимся к философскому экспериментальному документальному триптиху «Каци». В 1975 г. Г. Реджио задумал снять необычный фильм в абсолютно новом стиле. Он собрал образы из повседневной реальной жизни и воплотил на экране свои философские послания для человечества. «Каци» – неформальное название триптиха и в переводе с языка индейцев Хопи означает «жизнь». Это слово пройдет лейтмотивом сквозь двадцатилетнюю историю создания трилогии. Г. Реджио очень трепетно относился к любым языкам, особенно редким, исчезающим или малочисленным, поэтому изучал современных индейцев Хопи, живущих в резервации. Язык, мифология, обычаи, философия, мистика этого этноса очень выделяются среди других, поэтому они привлекли внимание Г. Реджио. Философия индейцев глубоко укоренена в признании необходимости поддержания гармонии природы и Вселенной, мир они видят как единое целое пространство.
Смысл трилогии режиссера созвучен содержанию античных философских трудов, а зашифрованные в ней символы и знаки индейцев понять можно, только прикоснувшись к вечности, начав осмысление происходящего. Можно ли осознать прошлое как настоящее и познать структуру высшей цели – сопоставления природы и цивилизации, подлинного величия Вселенной? Возможно ли постигать духовное через принятие себя, своего опыта и пытаться исправить допущенные ошибки? Эти важные вопросы созвучны философии М. Ганди: «Всегда считал, что только тот, кто рассматривает свои собственные ошибки через увеличительное стекло, а ошибки других – через уменьшительное, способен постичь относительное значение того и другого» (Ганди, 2016: 234).
Мифология индейцев Хопи представляет мир в четырех ипостасях, три из которых уже уничтожены людьми. Сейчас мы живем в оставшейся, и только от нас зависит ее будущее, так как человечество растеряло свою сущность бытия, стало абсолютно ничтожным и бессмысленным для огромной Вселенной. Г. Реджио своими фильмами приоткрыл человечеству тайну, через кинокамеру прикоснулся к метаморфозам бытия, философствуя о переосмыслении границ доступа и не-доступа в сознание каждого зрителя. Все структуры кинокартины подчинены главному вопросу – способно ли человечество мужественно принимать новые техногенные вызовы цивилизации и быстро стать телами нового времени без чувств и собственного сознания или все-таки попытаться преодолеть кризис духовности, культуры, глубинного смысла бытия?
В фильме «Коянискацци» показан завораживающий мир, движущийся как изображения в калейдоскопе, изменения которого сняты в ускоренном темпе для создания эффекта органики смысла происходящего. Должна быть сила, везде и всегда, даже там, где идет разрушение взаимосвязи мира и человека, при этом важен и нужен мотив восстановления. Рассуждения М. Мерло-Понти проясняют происходящее в окружающем мире режиссера как способ донести зрителям свою позицию активного осмысления: «Мотив – это инцидент, который функционирует только на уровне собственного смысла» (Мерло-Понти, 1999: 333).
Документалистика Г. Реджио предстает как катарсис очищения, катализатор для процесса спасения природы и человека. Картина «Коянискацци» демонстрирует противостояние последних через сопоставление череды образов природных пейзажей, людей, индустриальных достижений, которые можно трактовать как начало разрушения. Существование человечества в бешенном ритме в будущем представляется режиссером абсолютно пугающим: «И в этой форме действительность, по природе своей инертная и бессмысленная, недвижная и немая, приходит в движение, превращается в активную силу, атакующую хрустальный мир идеального. От удара хрупкий зачарованный мир разлетается на тысячи осколков, которые парят в воздухе, переливаясь всеми цветами радуги, и постепенно тускнеют, падая вниз, сливаясь с темной землей…» (Ортега-и-Гассет, 1991: 133). Рассуждение Х. Ортеги-и-Гассета очень точно описывает ту мировую проблему, которая настигнет человеческую цивилизацию, если люди не одумаются и бессмысленно уничтожат все то, что уже было создано ранее. Жизнь на грани распада или жизнь ради продолжения? В «Коянискацци» показана суматоха, постоянное движение и передвижение людей и машин. Используя круговую панораму, режиссер подводит зрителя к мысли о засасывающей рутине, о монотонности существования пространства, в котором нет дорог, а только пространственно-временной континуум, направленный в сторону хаоса.
Герменевтический подход Г. Реджио к созданию фильма позволяет предположить, что режиссер путем репрезентации визуальных картин искал наивысшую точку бескомпромиссного представления реальности. Только видеоряд и музыка, города и плывущие облака, горы, машины, люди… Музыка, вызывающая крик души режиссера, действует на зрителей с определенной скоростью, проникает в глубинное сознание и придает гармонию и силу повествованию.
В фильме нет словесного повествования – со скоростью 24 кадра в секунду зрители воспринимают и синхронизируют визуальное изображение в ином измерении. Режиссером используется эффект ускоренного движения для включения у зрителей когнитивных процессов, чтобы они могли более остро прочувствовать и увидеть себя в мире, искаженном технологическими процессами. Г. Реджио показывает многие современные изделия, в которых, по сути, нет необходимости у человека. Создав их, он лишается разума, становится лишь отражением самого себя, утрачивает свободу: «От одного того факта, что другой появляется как объект, он дается мне в принципе как целостность; он простирается по всему миру, как мирская сила синтетической организации этого мира» (Сартр, 2000: 197).
Развивая свою мысль о Другом, Ж.П. Сартр признает, что существование человека определяется окружающими его людьми, тем, как они влияют на индивида. Таким образом, Другой – это символ зависимости, и как он будет действовать, какими средствами – зыбкими, обволакивающими или утягивающими в движение – зависит от условий ситуации.
Равновесию свойственно нарушаться, особенно когда обитатели Земли забывают о главном своем предназначении. Г. Реджио шокирует зрителя, но очень последовательно – как в начале, так и в конце фильма. Получается закольцованность истории – в начале первых кадров взлетает лунная ракета, несется ввысь, и кажется, что все только начинается для человечества. Однако в последних кадрах мы видим ее падение, распад, взрыв – фатальный конец истории мира. Именно в свете утраченной гармонии отсыл к индейцам Хопи воспринимается словно метафора разрыва между человечеством и природой, утратой аутентичности и потерей духовности.
Грезы о прогрессе человечества Г. Реджио показал с иной стороны, с унынием и безнадежностью, точно повторяя в кадре приемы советского документального кино, но в контексте другой правды времени.
Заключение . Г. Реджио создавал «Коянискацци», опираясь на услышанные правдивые истории, анализируя мифологию племени и используя пророчества индейцев Хопи: «Если мы будем выкапывать богатства из земли, мы навлечем беду»; «Ближе ко Дню Очищения в небе будет кружиться паутина взад и вперед»; «Однажды с неба может быть сброшен контейнер с пеплом, который может сжечь Землю и вскипятить океаны».
Фильм «Коянискацци» – метафора человеческого общества, контейнер с пеплом представляется капсулой космического корабля, выброшенной за борт человеческой гордыни. Финал картины видится именно в этом разрушительном хаосе – уничтожении многовековой человеческой культуры. Разбалансированная жизнь людей планеты Земля показывается якобы из космоса, глазами инопланетных существ и позволяет нам увидеть величественную красоту нашего мира и трагедию развертывающегося мирового апокалипсиса. Когда обитатели планеты Земля, созданной высшими силами или Богом для жизни, приобретают в процессе эволюции разум, то обнаруживается, что их существование абсолютно ничтожно и бессмысленно для Вечности, по сравнению со Вселенной: «Поэтому миф, рассматриваемый с точки зрения своей символической природы, может оказаться сразу и символом, и аллегорией» (Лосев, 1991: 51). Тем не менее он воплощает в своем содержании единство идеи, и то, как человек ее реализует, в какой форме, скажется на установлении его связи с Богом и миром. А мифы, как известно, были первичной формой духовного опыта человека, поскольку описывали различные события, которые всегда приводили к установлению существующего порядка вещей в древнем обществе.
Безусловно, «Коянискацци» – фильм-послание. И последние титры говорят именно об этом: сумасшедшая жизнь, в смятении, не в равновесии; это состояние, которое требует другого образа существования. Финальные кадры картины отсылают зрителей к ее началу, в котором символично показано зарождение жизни на Земле и ее последующая эволюция, они намекают на единственно возможный положительный исход для человечества – возвращение к своим природным истокам.
Интегрируя наши рассуждения, следует сказать, что для Годфри Реджио кинодокументалистика стала отражающим зеркалом существования рода человеческого, новой религией.
Список литературы Философские кинопоэмы Годфри Реджио: поиск утраченной гармонии в фильме «Коянискацци»
- Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М., 2000. 258 с.
- Ганди М. Моя жизнь. Моя вера. М., 2022. 216 с.
- Изволов Н.А. Феномен кино: история и теория. М., 2005. 158 с.
- Кант И. Сочинения: в 6 т. М., 1966. Т. 5. 564 с.
- Кессиди Ф.Х. Сократ. М., 1976. 201 с.
- Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. 525 с.
- Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин, 1973. 56 с.
- Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. 604 с.
- Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991. 589 с.
- Платон. Избранное. М., 2018. 460 с.
- Сартр Ж.П. Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии. М., 2000. 639 с.
- Эйхенбаум Б.М. Поэтика кино. М. ; Л., 2001. 135 с.
- Ясперс К.Я. Смысл и назначение истории. М., 1991. 527 с.