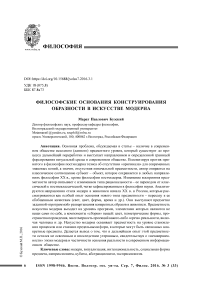Философские основания конструирования образности в искусстве модерна
Автор: Бузский Марат Павлович
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (33), 2016 года.
Бесплатный доступ
Основная проблема, обсуждаемая в статье - наличие в современном обществе исходного (данного) предметного уровня, который существует до процесса дальнейшей переработки и выступает направлением и определенной границей форсирования визуальной среды в современном обществе. Полемизируя против принятого в философии постмодерна тезиса об отсутствии «оригинала» для современных знаковых копий, а значит, отсутствия изначальной предметности, автор опирается на классическое соотношение субъект - объект, которое сохраняется в любых направлениях философии ХХ в., кроме философии постмодерна. Изменение восприятия предметности автор связывает с изменением типа рациональности - ее переходом от классической к постнеклассической, четко зафиксированным в философии науки. Анализируются направления стиля модерн в живописи начала ХХ в. в России, которые рассматриваются как особый опыт освоения нового типа предметности - переходу к ее обобщенным качествам (свет, цвет, форма, время и др.). Они выступают предметно заданной «программой» развертывания конкретных образов в живописи. Предметность искусства модерна выходит на уровень программ, элементами которых являются не вещи сами по себе, а компоненты «сборки» вещей: цвет, геометрические формы, пространства порождения, многомерность проекций какого-либо «среза» реальности, включая человека и др. Искусство модерна осваивает предметность на уровне становления процессов или ставших предельными форм, в которые могут быть «вписаны» конкретные предметы. Делается вывод о том, что в дальнейшем опыт этой предметности остался не освоенным и впоследствии утерянным, свидетельствуя о «незавершенности» эпохи модерна и частичности освоения реальности в современном информационном обществе.
Модерн, визуализация, интенциональность, социальная форма предмета, импрессионизм, кубизм, абстракционизм, экспрессионизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14974986
IDR: 14974986 | УДК: 18 | DOI: 10.15688/jvolsu7.2016.3.1
Текст научной статьи Философские основания конструирования образности в искусстве модерна
DOI:
Эстетические стили и методы, в которых развивалась живопись с эпохи Возрождения – барокко, классицизм, реализм, романтизм и др., с последующим переходом их в модерн, в такой же степени, как литература, музыка, театр, скульптура, обнаруживают своеобразное сходство с научным познанием с точки зрения субъектно-объектного отношения: здесь везде можно найти признаки того, что классическая рациональность переходит в неклассическую, а затем и в постнеклассическую. Во всех этих направлениях соответствующая деятельность – художественная и научно-познавательная (в период от ХVII по ХХ в. включительно) – меняет «систему координат», переходя от преобладающей «привязки» к объекту, который существует здесь как некая исходная данность, к конструированию объекта , опираясь на соответствующие мировоззренческие принципы, методы и правила. Здесь, таким образом, открывается некоторая общая закономерность, связанная со все более глубоким переводом объекта-образа в условия его восприятия и переработки субъектом, что выступает как результат (или следствие) изменения мировоззрения, картины мира, развития производства, технологий, инфраструктуры и др.
В целом в философии науки, культуры, истории этот процесс традиционно объясняется как закономерный переход от механистической к вероятностностно-статистической, нелинейной причинности, что связано с расширением познания, появлением новых стилей и методов культуры, искусства и др. Однако, поскольку здесь все более проблематичным становится вопрос о существовании объекта в своем исходном состоянии, то возникает вопрос: сохраняется ли некоторый постоянный «инвариант» объекта в этом переходе, который бы объяснял, с одной стороны, «уход» этого объекта с авансцены как исходной данности, уменьшение значимости этой непосредственной данности в познавательном и художественно-эстетическом опыте и, с другой стороны, возрастание роли субъектной стороны, которая своей конструктивной активностью «восстанавливает» объект, хотя и в рамках преобладания новой логики, новой «траектории» его существования и изменений? Именно в этом, как можно предполагать, следует искать ответ на вопрос о причинах радикального изменения содержания эстетики, которые наблюдаются вместе с появлением стиля модерн и его дальнейших изменений в искусстве конца ХIХ–ХХ века.
Эта тема актуальна сегодня в контексте абсолютного возрастания роли субъектной стороны в обосновании и раскрытии существования объектов – позиции, преобладающей в современной постмодерной эпохе и ее философии, в рассмотрении особенностей формирования визуальной реальности в информационном обществе. Сегодня визуальность творится людьми, а сами объекты в их непосредственной данности для человека отступают на задний план. А.В. Дроздова отмечает, что «визуальность становится способом конструирования повседневной практики, социализации индивидов, их коммуникационного взаимодействия. В визуальном поле современных медиа (телевидение, Интернет, глянцевые журналы, реклама) не только формируется культурная идентичность человека, но и появляются новые роли пользователей, вовлеченных в производство, потребление и создание информации... “Визуальный поворот”, проявляющийся в возрастании роли образности в современной культуре, демонстрирует, что визуальность стала не просто частью нашей повседневной жизни, она включена в ее ткань наряду с афишами, надписями и рекламными плакатами, формирует ее новую визуальную практику. В XX в. визуальность стала формообразующим принципом всей современной культуры, теперь ее основой является не линейное письмо, а поток экранных изображений, который свободно вмещает в себя устную речь, анимацию, письменные тексты и многое другое» [3, c. 31]. «Мир “явлений”: знаков, образов, интерпретаций – становится миром медиа, а реальность обретает черты медиареальности» [6, с. 47].
И далее автор подчеркивает: «В современном информационном обществе в центре внимания оказывается уже не вещь, а ее образ, оппозиция реального и фигурального выражает относительную альтернативу актуального и виртуального. Исчезают четкие границы между символическими и материальными артефактами, между медиа и сообщением, между “текстами” и “товарами”. Товары теперь производятся для передачи значений как “товары-знаки”, а медиасообщения распространяются в качестве товаров» [3, с. 32].
Эта позиция вполне коррелируется с концепцией симулякров, развитой представителями философии постмодернизма: симулякр – это копия несуществующего оригинала. И уход от реальности через симулякры имеет свою историю. Если знак, как отмечает Ж. Бодрий-яр, первоначально представляет собой отражение некой субстанциональной реальности, то впоследствии он начинает искажать ее, на следующем этапе он уже маскирует не что иное, как отсутствие подобной субстациональ-ной реальности; наконец, он обращается в свой собственный симулякр и утрачивает всякое отношение к какой-то реальности. Автор пишет следующее: «Диснейленд существует как желание, утверждение того, что он является “реальной” страной, “реальной” Америкой. Диснейленд представляется как воображаемый для того, чтобы мы поверили, что все остальное – реально, в то время как весь Лос-Анджелес и окружающая его американская территория являются не реальными, а, скорее, гиперреальными или симулятивными» [1, с. 369]. Таким образом, утверждается, что реальность как таковая изначально включает в собственную структуру симуляцию, репрезентацию, фикцию и тем самым выдает себя за нечто, реально существующее.
И здесь снова возникает важный для нашей темы вопрос: образ или символ формирует наше сознание при восприятии внешней среды? И если это все же не чувственно данный и осознаваемый образ, представляющий предметность, через которую нам дана объективная реальность, то тогда где гарантия объективности практик, которые создают визуальную реальность в современной информационно-коммуникативной среде? А ведь именно такая объективность бытия вещей , которую не может обосновать постмодерн, противостоит самой идее отказа от общего и переводу реальности к совокупности отдельных дискурсов, к господству единичного, мало связанного друг с другом.
В этом вопросе очень важной философской позицией оказывается феноменология, основатель которой Э. Гуссерль провозгласил требование познавательной установки: назад к вещам! Освобождаясь от натуралистической и психологической установки по отношению к реальности, сознание открывает собственную конструктивно-смысловую основу, в которой сохраняется отношение к предметности. Но теперь предмет воспринимается сознанием не «физиологически» или психологически как данная сознанию и внешняя для него материально-вещественная реальность, а как то, что открывается сознанию в его конкретной установке на мир. И эта реальность в содержании сознания – ноэма – оказывается для Э. Гуссерля предметной.
Э. Гуссерль пишет: «...каждое cogito, или, иначе, каждое протекающее в сознании переживание полагает некий предмет и, таким образом, несет в себе самом, как положенное, то или иное свое cogitatum, причем каждое cogito делает это по-своему. В восприятии дома полагается дом, точнее, этот индивидуальный дом, и полагается в модусе восприятия, в воспоминании дома он полагается в модусе воспоминания, в воображении дома – в модусе воображения; предикативное суждение о доме, который воспринимается, к примеру, как стоящий здесь , полагает его, соответственно, в модусе суждения, примешивающаяся сюда оценка – опять-таки в новом модусе и т. д. Осознаваемые переживания называются также интенциональными , причем слово “интенциональность” означает здесь не что иное, как это всеобщее свойство сознания – быть сознанием о чем-то, в качестве cogito нести в себе свое cogitatum» [2, с. 362–363].
Таким образом, сознание всегда должно опираться на объективность внешней среды, которая существует вне сознания и дана ему в разных модусах и измерениях. Э. Гуссерль четко заявляет, что «нечто отдельное постоянно осознается в единстве некого сознания, которое само может стать и довольно часто становится схватывающим сознанием. При этом мировое целое осознается в свойственной ему форме пространственно-временной бесконечности. Во всех превратностях сознания пребывает изменчивый в своих познанных в опыте или полагаемых как-либо иначе частностях, но при этом все же единый, единственный универсум, остающийся фоном всей естественной жизни» [2, с. 367].
Единство предмета в сознании и реального предмета определяется теперь не просто психологически, как отражение предмета в сознании, но через активно вырабатываемые самим сознанием смысловые, ценностные и другие позиции, сам «угол зрения» сознания на мир, на предмет. Принципиальная ошибка современного конструктивистского подхода к феномену визуальности в том, что формируемые мышлением визуальные «объекты» отрываются от полноты и целостности той практики , в логике которой они возникают и существуют. Визуальные медиатексты, которые сегодня активно замещают вербальные, «линейно выраженные» тексты, как симулякры оказываются оторванными от собственной общественной среды, в которой, кроме информационных и виртуальных «событий», существует и реальное производство, и бытие коллективных социальных субъектов-общностей, и закон роста производительности труда как проявление закона экономии времени и др. Да и резко возросшая зависимость человека от денег сама является конкретным направлением социальной детерминации – причинно-следственного взаимодействия между объективной и субъективной сторонами общественной системы.
Сегодня особым «предметом» для человека, его сознания является само существование общества в конкретной исторической форме. И этот «предмет» формирует логику действий, специфические технологии освоения окружающей среды в ее конкретно-исторической данности, которые ставят предел конструктивно создаваемым проявлениям «визуальной реальности». Этот предел – объективность бытия общества, его внутренняя форма, в пространстве и времени которых человеческое восприятие и действие оказываются «уже заранее» организованными, преддан-ными. Очень четко выразил это В.Е. Кеме-ров. Он отметил: «Обнаружение социальных качеств предмета предполагает конкретное человеческое усилие, согласование деятельных способностей индивида с формой, приданной предмету действиями другого человека... Способность человека открывать и воссоздавать в предметах их сверхчувственные социальные свойства предполагает и в нем носителя и творца подобных же свойств. Он овла- девает социальной формой предмета потому, что владеет социальной формой своего собственного предметного бытия, находится в этой форме, выявляет ее границы, преодолевает их» [4, с. 128–129].
Таким образом, современное информационное общество не отменяет производственно-деятельной сущности общественной системы, как и глубинной включенности человека в ее пространство и время. Но это означает, что границами «данности» предметного мира здесь являются те формы и функции реальной материальной среды, ее предметных образований, в «облике» которых эта среда может существовать и изменяться как арена жизнедеятельности людей. Но эта среда оказывается чрезвычайно сложной и открывает огромное количество «промежуточных слоев», которые находятся между «исходным» состоянием предметов и теми изменениями, которым они подвергаются в производственной деятельности и других функциях общественной системы. Каждый из этих «слоев» оказывается особой предметной средой, которая вовлекается в научное познание и практическую деятельность. Так, «исходной реальностью» для генной инженерии оказывается генетическая цепочка ДНК-РНК, для педагогического воздействия – «предметность» личности ученика, его индивидуальность, для специалистов в сфере межкультурных коммуникаций – языковая, экономическая, политическая и другие сферы их осуществления, особенности и условия взаимопонимания коммуникаций, совместимость культурных символов с точки зрения традиций и ценностей разных культур и цивилизаций и т. д.
И теперь можно вернуться к вопросам, которые были поставлены в начале, и попытаться выяснить, какая же «предметность» сохраняется или представлена в стилях и направлениях живописи модерна и является ли эта предметность чистым вымыслом художника, или же она все-таки укоренена в социальной реальности, то есть выступает по отношению к автору как объективно данная реальность, которую, однако, нужно «увидеть» и выделить в особой авторской позиции – мировоззренческой, эстетической, социальной, ценностной.
На переломе ХIХ–ХХ вв. возникают такие изменения в обществе, которые отрыва- ются от существующих форм и средств их понимания и освоения. Рывок в технике, появление кино, радио; изменения в архитектуре, в городском общественном транспорте и связи; ускорение времени, рост числа научных открытий и изобретений, прорыв в микромир и т. п. Начало и сам ход Первой мировой войны открывает невиданные энергии разрушения, дегуманизации человека; с другой стороны, возникают идеи созидания будущего через революции, технику, науку и др.
В этом пространстве открывается совершенно новая предметность – не конкретные артефакты быта или техники, но «программы», или способы задания (выявления, раскрытия) предметности: свет, скорость, геометрические формы, конструктивная деятельность человека, его свобода, время и т. п. И одними из первых стали осваивать эту новую открывшуюся реальность художники, представители искусства и литературы, театра, музыки. Возникает художественный «авангард», представители которого «стремились жить и творить как бы за гранью привычного и допустимого, намеренно порывая с традицией, провозглашая не просто открытие новых эпох в истории человечества, но и сотворение новых художественно-эстетических миров, смело и безоглядно экспериментируя с человеческим мышлением и восприятием – продвигая их к новым перспективам видения и мироощущения» [5, с. 33].
Соглашаясь со сказанным, можно, однако, добавить, что представители «авангарда» не просто экспериментировали, но осознавали и выражали воздействие новой реальности, в которой радикально поменялись границы «данности»: теперь последняя обнаруживается не в самих материальных предметных комплексах как таковых, но гораздо глубже, выступая на уровне не единичного, а общего. Тайна и суть авангарда – первые попытки выразить качества предметности, которая существует в форме общего (тенденции, порождающего начала, символа и др.). Но подобный опыт «разъятия» реальности с неизбежностью приводит к идее беспредметного искусства – например, абстракционизма. Здесь логика в том, что никакая новая граница данности не гарантирует собственные пределы существования предмета, или реально- сти. И на определенном этапе сама данность возникает как бесконечное «снятие» или отрицание любой предметности.
Но первые шаги в этом направлении делает все-таки не модернизм, а декаданс и импрессионизм. Импрессионизм возник во Франции в 1860-х гг., охватив также поэзию, музыку и театр в Европе и Северной Америке во второй половине ХIХ века. Для импрессионистов главным стало не выявление глубинного содержания, которое представлено в картине, а раскрытие игры световых и цветовых эффектов. Именно эти эффекты: свет и тень на траве, в отблесках воздуха, блики и отсветы, равноценность значений переднего и заднего планов – стали составлять здесь главный смысл живописи. И, как замечает В.Г. Ланс-кин, «опосредующий слой изображения, как он образуется в живописи, оказался центром внимания, оставив как бы на заднем плане и предмет изображения, и идейный план, который стремился бы внести автор. Темой для импрессионистов чаще всего были пейзажи, иногда портреты, но никогда не психологические, часто как бы жанровые сцены, в которых... важен был не социальный срез жизни, а жизнь цвета и света, их движение и игра» [5, с. 34].
Здесь предмет – не то конкретное, что открывается через игру света и цвета (пейзажи, потрет и др.), но сама «среда» такой игры, устройство игрового природного пространства, которое формирует соответствующие изображения на полотне или в музыкальных произведениях.
Модернизм продолжает это выявление новой предметности, но делает это более радикально. Модернисты провозгласили полный разрыв с традицией; их заявления в манифестах и в самом творчестве, особенно в 1900– 1920 гг., носили бунтарский и эпатирующий характер. При этом были созданы новые системы художественного выражения: абстракционизм в живописи (В. Кандинский, П. Клее и др.), додекафония (серийная техника) в музыке (А. Шенберг, А. Веберн и др.), метод «потока сознания» в литературе (Дж. Джойс), супрематизм (К. Малевич) и т. п.
Можно еще раз процитировать В.Г. Ланкина, который глубоко оценивает феномен модернизма в целом: «Эстетическому эксперименту модернизма свойственно желание быть чем-то большим, чем просто искусство, наука или критика. Модернистские проекты предполагают особое новое видение мира – порой преображение, чуть ли не пересоздание его – и мессианскую роль художника-творца в истории. Именно о создании новых миров говорят в своих манифестах и мировоззренческих концепциях художники-модернисты. Недаром они и создают эти концепции, ведь их эстетический эксперимент – не только акт искусства, но и акт нового познания, постижения бытия, а порой и мистический: религиозно-мистический, магический, оккультно-мистический акт.
В этом экспериментаторстве чувствовалось часто нечто нарочитое – искусственно рациональное, а не собственно эстетическое в его специфической тонкости. Это было скорее не искусство как создание непревзойденных шедевров, а именно дерзкий эксперимент с эстетическим чувством и сознанием, попытка их расширить, или выйти за их пределы (курсив мой. – М. Б. ) – попытка, очевидно, рискованная и порой опустошающе курьезная....общая тенденция модернистских устремлений имела рационалистический вектор: это были эгоцентрически замкнутые, абстрактно-всеобщие смысловые системы с характерно упрощенным языком выразительности; это был маниакально навязчивый тон первооткрывателей путей человечества» [5, с. 35].
Таким образом, направления модернизма формировались на основе специально выделенной реальности – субъективной или объективной, пространство и свойства которой определяли собственно и характер соответствующей живописи. Рассмотрим несколько таких направлений.
Так, кубизм – авангардистское направление в изобразительном искусстве, зародившееся в начале XX в., строит свои изображения на основе выделения «изначальных» геометрических форм, в соотношении которых структурирована реальность. Его представители – П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, М. Дюшан, А. Архипенко, К. Бранкузи и др. – исходят из рационализации внешней среды, которая осуществляется на основе ее «объективного рассмотрения».
Абстракционизм как направление возник в конце 1900-х гг. и сохранялся в различ- ных модификациях вплоть до 1960-х годов. Предметность его еще более абстрактна, чем в кубизме. Эта предметность схватывается в особом пространстве линий, их изгиба и углов, цветовых пятен, простых и не узнаваемых форм в скульптуре. Это как бы «начало» предметности, «условия» ее собственного «появления». В этом стиле живопись должна ничего конкретно не изображать, но выражать внутреннюю «складываемость» бытия и сознания. При этом абстракционизм внутренне тяготел к символизму – его лучшие композиции имеют символическую подоплеку и глубокую рефлексивную нагрузку.
Субъективно, через внутреннее состояние самого художника выражает свою предметность экспрессионизм (от лат. expressio – выражение) – авангардистское течение в европейском искусстве, получившее развитие в основном в начале XX в., особенно в 1910-е годы. Здесь предметность схвачена в ракурсе негативной оценки ее действия, хотя она сама не имеет конкретных проявлений. Но это действие проявляется в деформациях образов, в которых отражено неуравновешенное, балансирующее на грани срыва состояния самого автора. Эта особенность выражения предметности стала основой довольно широкого распространения экспрессионизма, который охватил не только живопись, но и литературу, театр, кинематограф, архитектуру и музыку. Начало этого течения в живописи связывают с творчеством жившего во Франции голландца В. Ван Гога и норвежца Э. Мунка. Но сам экспрессионизм зародился в Германии и представлен в творчестве художников Л. Кирхнера, Ф. Марка, А. Макке, отчасти П. Клее, во Франции – Х. Сутина и др.
Модернизм был художественным обобщением эпохи модерна, которая началась с ХVII в. и в ХХ достигла своего предела. Несмотря на современный постмодерн, который отрицает модерн в принципе, можно согласиться с точкой зрения Ю. Хабермаса, который считает эпоху модерна «незавершенным проектом». В чем же он не завершен?
Думается, что здесь важную роль играет нерешенность проблемы предметности – соотношения здесь «данного» и «заданного». Смысл в том, что в современном информационном обществе, которое сменило инду- стриальную эпоху, под вопрос ставится сама исходная данность предметной среды, которая могла бы устанавливать пределы конструированию медиасреды и ее визуальнос-ти, противоположной линейности прежних вербальных текстов. Расширение влияния виртуального пространства, СМИ, практики порождения и распространения симулякров в разных вариантах – все это работает на «снятие» данности, которая оказывается условной и основанной на консенсусе, то есть своеобразной «фикцией» или фантомом.
Однако художественный модернизм заложил совершенно другую возможность и практику – выявление реальности через ее предметно-порождающие «коды», то есть освоение общих качеств и форм предметности и вывод этих форм на чувственно воспринимаемый уровень. Выше уже было сказано, что условием освоения такой «общей» формы предметности становится «распредмечивание» целостности той социальной формы, в пространстве-времени которой живут и действуют люди, субъекты. Но сегодня само информационное общество оказывается не освоенным как целое. Выводя на передний план информационный детерминизм, его теоретики предполагают возможность полного перевода в информацию всего содержания общества .
Но ведь субъект, его сознание и сама интенциональность не могут превратиться в информацию, так как возникнет «информационная энтропия» – разрушение структур общества в силу информационного тождества (взаимного выравнивания) любых его внутренних различий и ритмики. Но если сохраняется субъект, его сознание как не информационная реальность , должна сохраняться и объектно-предметная сторона, с которой коррелирует такое сознание.
Модернизм открывает опыт освоения предметности в контексте целого – теперь уже планетарного сознания общества, которое не сводится к границам национальной культуры, к образам реальности, которые даны в рамках локальных миров. Но этот опыт, как и соответствующее революционное движение (не только в политике, но и в науке, культуре, технологиях и др.), оказались не осмысленными в своей сущности и не получили дальнейшего развертывания в системах образования, в практике, в социализации.
Модернизм открывает (хотя и не осмысливает) ту важную закономерность, что начало эпохи глобализации в огромной степени меняет облик предметности , которая входит в деятельность и общение людей, в их образ жизни. Здесь начинает проявляться новое соотношение между данным и заданным – не на уровне отдельных предметов и технологий их переработки, но на уровне общего , которое приобретает чувственно воспринимаемый «облик» и становится основой его дальнейшего конструирования и трансформации. Это значит, что и сегодня сохраняется детерминизм данного по отношению к заданному и сконструированному. Но освоение и теоретическая концептуализация (моделирование) такого детерминизма оказывается почти что «белым пятном» в современном обществе.
Простейший пример. Когда формируется коллектив, обычно исходят из совокупности изолированных и отчужденных друг от друга индивидов, которые еще должны наладить групповые и другие связи между собой. Здесь данность – индивиды, а заданность – формирование их взаимодействия. Но это ошибка, так как исходный индивид – уже общественное существо, которое существует в некоторой общей «предметности» социальных и других связей, взаимодействий, хотя бы начиная с языка, традиций, социальных привычек и др. Формирование коллектива поэтому – не отказ от индивидуальной «данности» сотрудников, но развитие той общей «предметности», в составе которой они становятся сотрудниками данного предприятия. А это – развитие этики, корпоративной культуры, ценностей данного предприятия как мотиваторов поведения и общения сотрудников и др. Детерминизм (сохранение и учет) этой исходной коллективносоциальной и культурной «предметности» – важное условие для успешного существования и развития предприятия. И подобных примеров множество.
Таким образом, потенциал модернистского искусства – в открытии новых границ и уровней освоения предметной сущности человека. И такое освоение сегодня не только «выравнивает» любые технологии и програм- мы, которые опираются на принцип бесконечной пластичности вещей и самого человека, которые лишены исходных «твердых» и объективных форм своей данности, но и значительно усиливает в обществе вектор его объективного существования, поколебленный расширением виртуальных миров и информационно-медийных технологий. Вместе с тем улучшаются условия для усиления гуманизма в обществе, для восстановления экзистенциально-духовного статуса личности, ее существования в обществе как субъекта деятельности, творчества и свободы.
Список литературы Философские основания конструирования образности в искусстве модерна
- Бодрийяр, Ж. Символический обмен и смерть/Ж. Бодрийяр. -М.: Добросвет, 2000. -387 c.
- Гуссерль, Э. Логические исследования. Картезианские размышления/Э. Гуссерль. -Минск: Харвест; М.: АСТ, 2000. -752 c.
- Дроздова, А. В. Визуальность как феномен современного медиаобщества/А. В. Дроздова//Дискуссия. -2014. -№ 10 (51). -C. 29-36.
- Кемеров, В. Е. Введение в социальную философию/В. Е. Кемеров. -М.: Академический Проект, 2001. -314 c.
- Ланкин, В. Г. Основы эстетики/В. Г. Ланкин. -Томск: Изд-во Томск. политехн. ун-та, 2010. -104 с.
- Савчук, В. Медиафилософия. Приступ реальности/В. Савчук. -СПб.: Изд-во РХГА, 2013. -338 с.