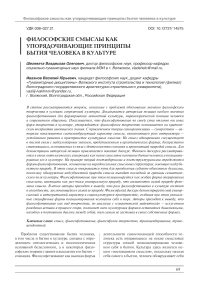Философские смыслы как упорядочивающие принципы бытия человека в культуре
Автор: Шелекета Владислав Олегович, Ивахнов Василий Юрьевич
Журнал: Сервис plus @servis-plus
Рубрика: Цивилизация и культура
Статья в выпуске: 4 т.9, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой обоснования значения философского творчества в условиях современной культуры. Доказывается авторская позиция особого значения философствования для формирования личностной культуры, мировоззренческой позиции человека и современного общества. Показывается, что философствование по своей сути отлично от иных форм творчества в культуре, утверждается: философское творчество основывается на критиче-ском восприятии имеющегося знания. С привлечением теории самоорганизации - синергетики - ав-торами показывается системообразующий характер смысла, выполняющего роль аттрактора - устойчивого решения в пространстве культурных смыслов. Но смысл одновременно сосуществует в тесной связи с надкультурным знанием, представленным в архетипических формах, беспрестанно становящихся, осознаваемых в связи с деятельностью сознания и проясняющей природой смысла. Для демонстрации авторской позиции привлекается понятие дискурс. Феномен дискурса рассматрива-ется в своих онтологических измерениях как некое смысловое основание бытия человека и позициони-рования его в культуре. На примере теорий постмодернизма и постструктурализма определяются формы философствования, основанные на парадоксальных смысловых структурах, имеющих надсубъ-ектную природу. В этом смысле открывается путь для преодоления субъект-объектного дуализма, поскольку обнаружение надсубъектной природы смысла выводит последний за границы семантиче-ского поля культуры. Философствование при этом позиционируется как особая форма оперирования смыслами, имеющими как раз-таки универсальную природу, что имманентно самой природе фено-мена смысла. В итоге авторы приходят к выводу, что роль философствования в культуре состоит в способности, заключающейся в самой ее природе. Философский дискурс демонстрирует свой универ-сальный и интегративный характер в социокультурном пространстве, создавая при этом уникаль-ные специфичные формы позиционирования человеком себя в мире. Авторы приходят к выводу, что философствование как вид творчества, по аналогии с «сократовской майевтикой» - искусством рождения истины в процессе спора, позволяет всем культурным формам оставаться динамичными, находясь в постоянном диалоге между собой, тем самым не застывая в своих собственных формах.
Смысл, философствование, философское творчество, трансцендирование, транс-цендентный
Короткий адрес: https://sciup.org/140210330
IDR: 140210330 | УДК: 008-027.21 | DOI: 10.12737/14575
Текст научной статьи Философские смыслы как упорядочивающие принципы бытия человека в культуре
Проблема существования бытия человека, в том числе и бытия в культуре, связана с определением онтологических и гносеологических оснований безусловного, а в некоторых философских теориях главного акцедента его бытия – сознания. Философствование как высшая форма деятельности самосознающей способности человека есть опирающееся на некие смысловые структуры способ позиционирования человеком себя в бытии. Культура здесь является неким «поставщиком смыслов», поскольку находя себя самого в бытии, человек обнаруживает себя в смысловом континууме культуры. Но не только. В этом смысле философствование как опора на универсальные смыслы нуждается в раскрытии самой природы феномена смысла как упорядочивающего принципа бытия человека. В таком своем понимании философские смыслы выполняют функцию аттракторов – принципов устойчивых решений [5, 7].
Новая научная теория или, вернее, междисциплинарный научный метод, возникший в середине XX в.,– синергетика – позволяет по-новому взглянуть на рассматриваемую проблему наличия объективного смысла сущего. Так, понятие «аттрактор» как устойчивое решение или состояние системы, к которому данная система эволюционирует, представляет собой некий объективный фактор развития любого объекта. При этом аттрактор как бы действует из будущего. Он представляет собой целесообразность и закономерность, выражающуюся в наиболее гармоничном для данного объекта состоянии. Ведь существует, согласно синергетике, строго определенный спектр возможных состояний (кем определенный – это уже другой вопрос). Здесь немаловажным является то, что, выбрав определенный путь, система (человека также возможно рассматривать как систему), переходит скачкообразно на новый уровень бытия.
Вот как эту закономерность применительно к человеческой жизни рассматривают современные исследователи целостности: «Парадоксальность действия аттрактора заключается в том, что он осуществляет как бы детерминацию будущим, точнее предстоящим, состоянием системы. Состояние еще не достигнуто, его не существует, но оно каким-то загадочным образом протягивает щупальца из будущего в настоящее. Здесь и встает философская проблема возможности целеполагания в неорганической природе» [4, С. 170].
Проблема возможности философствования, философского творчества также может быть решена с привлечением категориального аппарата синергетики. Любой объект, согласно синергетике, в особых состояниях неустойчивости – точках бифуркации – как бы устанавливает свое единство со всем универсумом, поскольку становится чувствительным к малейшим воздействиям. Не это ли мы наблюдаем в состояниях креативности у художников и писателей – состояния, представляющие собой хаос,– когда они приобщаются к универсальным духовным константам.
Вот как синергетически можно обосновать подобные явления: «В нормальном состоянии среды различные уровни бытия взаимно почти недосягаемы… А вот синергетика допускает возможность – в особых состояниях неустойчивости открытой нелинейной среды – сквозного прободения уровней, «зеленого света» воздействия от низшего этажа организации до высшего» [4, с. 172].
Таким образом, человек имеет возможность приобщения к целостности, которая представляет собой некое идеально-материальное, интуитивно предчувствуемое любым элементом бытия состояние, представляющее собой сплошную данность, существующее не в вещах самих по себе, то есть не в их структуре, и не вне вещей, то есть не в качестве неких идей, регулирующих поведение объектов. Системообразующий принцип как притягивающее функциональное образование находится «на поверхности вещей», как сказали бы постмодернисты, или в сфере отношений, в области напряженности взаимодействий между объектами и между людьми. В таком понимании этот системообразующий принцип вполне может быть обозначен понятием «смысл».
Философствование удовлетворяет фундаментальную потребность человеческого духа – потребность к всеохватности и единству, целостной картине мира на рациональной основе. Философское творчество одновременно является выражением этой потребности. Отсутствие целостности и единства в представлениях о внешнем мире обусловливает отсутствие целостности и единства в мире внутреннем – духовном мире человека. В таком аспекте философствование – это поиск, генерация всеохватных идей и представлений о целостности мира и духовной жизни человека. При решении мировоззренческих проблем в философском творчестве генерируются не только идеи общие, являющиеся предпосылкой освоения объектов на данной стадии развития познания, но и формируются смыслы, значимость которых для науки обнаруживается лишь на будущих этапах ее эволюции. В этом смысле можно говорить, что философия выполняет определенную прогнозирующую функцию по отношению к другим формам культуры и, в частности, к естествознанию. Идеи атомистики, например, были выдвинуты еще Левкиппом и Демокритом, но лишь в XVII–XVIII вв. превратились в естественнонаучный факт. Лейбниц предвосхитил некоторые наиболее общие особенности сложных саморегулирующих си- стем, изучение которых началось в естествознании к середине XIX в.
Прогностическая природа философских идей и принципов связана не только с тем, что в философском познании обобщается и осмысливается предельно широкий материал, включающий все аспекты творчества. Другой важный аспект философствования, связанный с генерацией этих идей и принципов, обусловлен вну-тритеоретическими задачами самой философии. Выявляя основные мировоззренческие смыслы, свойственные культуре соответствующей эпохи, философия затем оперирует ими как особыми идеальными объектами, изучает их внутренние отношения, связывает их в целостную систему, где любое изменение одного элемента прямо или косвенно влияет на другие. В результате таких внутритеоретических операций могут возникать новые категориальные смыслы, причем даже такие, для которых трудно подыскать прямые аналоги в практике соответствующей эпохе. Развивая эти смыслы, философия готовит своеобразные категориальные матрицы будущих мировоззренческих структур, будущих способов понимания, осмысления и переживания человеческого мира [1, с. 388].
Проблема существования всеобщей упорядоченности сталкивается с проблемой выбора в состоянии неравновесия устойчивого решения. Здесь возникают следующие вопросы:
-
1) проблема личностного выбора;
-
2) проблема существования зла, добра и ответственности человека за совершенное: если уже все решено, есть цель, то мой выбор – фикция;
-
3) механизм выбора из множества альтернатив.
Но каковы же конкретные механизмы «приобщения» индивидуального сознания к всеобщности упорядоченности? Привлечение для ответа на этот вопрос неклассических философских теорий, предполагает ориентацию психики на некие смыслы, выступающие как некие регу-лятивы познания и деятельности. В отношении к последним виделась наконец-то обретенная вожделенная объективность.
Вот это-то, ухватываемое интуитивными способами познания, предчувствуемое модернистами и структуралистами, и стало объектом анализа новыми ниспровергателями прошлого – представителями постмодернизма и постструктурализма. Именно они пытались соединить реальное и идеальное, поэтому главной катего- рией их рассмотрения стало конкретное, обладающее, по их убеждению, признаками как того, так и другого.
После открытий Гуссерля, Бергсона и эмпи-риокритицистов стало ясным, что любой предмет нам дан (в этом слове чувствовалось будущее экзистенциализма, от открытий которого сегодня уже никуда не денешься) как очевидность, прежде всего, нашего сознания. То есть в любом случае объекта знания как чисто предметного факта («вещи в себе») у нас нет. А есть некая идеально-материальная реальность, в которой невозможно выявить доминирующее значение того либо другого составляющего. Значит, выход заключается в выявлении значения, то есть смыслового содержания того, что уже есть. А с фактом неуничтожимости и неразложимости в процессе философствования этого данного западная философия уже смирилась. Например, вот как М. Фуко заявляет основную установку своего типа миросозерцания: «… мы хотим, хорошо это или дурно, обойтись без всяких вещей, «де презентифицировать» их. <…> Нам необходимо заменить сокровенные сокровища вещей дискурсом, регулярной формацией объектов, которые очерчиваются только в нем, необходимо определить эти объекты без каких-либо отсылок к сути вещей, увязав их вместо этого с совокупностью правил, которые позволяют им формироваться в качестве объекта дискурса…» [9, с. 48].
Здесь речь идет о своеобразных практических феноменах – дискурсах, не имеющих отношения ни к словам как представителям идеального, ни к вещам как манифестациям материального. Дискурс как таковой есть «практика, систематически формирующая значения, о которых они (дискурсы) говорят» [4, с. 50]. Этот тезис Фуко можно интерпретировать таким образом, что значения не нужно искать в глубине бытия, как делают это трансценденталисты, у которых суть вещей есть в существующей «середине» события, явления, вещи, как некий представитель идеального мира, существующего трансцендентно окружающей нас видимой действительности. Смысл также не есть нечто связываемое со звучанием слова (как у Леви-Строса), с его лексическими, обусловленными культурогенезисом структурами.
Программное заявление постструктурализма – смысл онтологичен. Он также не является чем-то сконструированным.
Так, дискурс в онтологии смысла Фуко перестает быть двухслойным, здесь не идет речь о диалектике внешнего и внутреннего, об истолкованиях как сущности дискурса и того, о чем происходят высказывания. Высказывания сами являются вещами [4, c. 121]. Задача обнаружения этих объективных структур может быть выполнена как избавленная от бесконечных «умножений смысла». Поле высказываний есть «места событий» [4, с. 122–123]. В данном высказывании подчеркивается целостный характер жизни как главной характеризующей единства бытия человека и культуры, где последняя не есть сфера «идеальных» смысловых конструкций, а, как говорится в вышеприведенном высказывании, некое «место», где протекают экзистенциальные события, к которым, помимо прочего, можно отнести и рефлексивные акты.
Анализируя вышеизложенные взгляды апостола постструктурализма, можно говорить о том, что знание, дискурсы как объективная ситуация выстраивается, несмотря на отталкивание от позиции научного подхода, тем не менее, по законам самоорганизации, т.е. структурируется. Смысл создает и одновременно создается всеми окружающими и привходящими элементами» [4, с. 176]. Можно утверждать также, что он создает некую «тягу» из будущего гармонического состояния системы.
Таким образом, «Археология знания», а именно так обозначил свой метод Фуко, занимается анализом того как, когда и каким образом возникает некая доминирующая система высказываний – новая дискурсивная формация. Можно заметить сходство этих формаций с архетипами Юнга, но последние есть, наверное, наиболее фундаментальные дискурсивные формации, хотя существуют они по такому же принципу, что и их более локальные «сородичи». Различные науки имеют своеобразные пороги – стадии созревания дискурса во времени, но математика с самого начала имеет сформированный дискурс идеальных объектов. Вообще, у Фуко данный вопрос – о связи времени, генезиса дискурса четко не артикулирован, хотя он и утверждает, что археология истории занимается анализом «связей», которые могут объединить в данную эпоху дискурсивные практики… [4, с. 196].
Сходство с правилами теории самоорганизации и принципом системности заключается в том, что существуют правила дискурса, своеобразная целостность последнего, который так же, как сформировавшаяся система, отторгает высказывания, не совпадающие с этими правилами. Это есть регулятивная функция объектив- ности как жизненности какого-либо явления нашей субъективной реальности, соответствия ее «здоровым» дискурсам мира.
Ж. Делез как выразитель постмодернизма также рассматривает феноменологию объективности не в традициях поиска смысла в идеальных сферах, нисходящих на мир материи, и не в последнем, который на определенном этапе начинает выдавать идеально-смысловые структуры культуры. Он ищет объективность на подвижной границе субъекта и объекта – в «событиях» как сущности языка.
Вообще, онтология смысла имеет, как и в традициях русской философии, свои истоки в хаосе. Но если в последней «меон» есть исток мира материи, то у Делеза речь идет об идеальных структурах.
Парадоксы – наиболее наглядный пример поверхности бытия, на которой события и существуют. В мире таких вещей не может быть причинно-следственных связей, а единство может быть выражено в понятии общая судьба, т.е. сосуществование именно данных вещей. В данном локальном смысловом пространстве есть их имманентно-трансцендентное соприсутствие и связь, их объединяющая и творящая смысл из самой себя; эта связь и выражена в понятии события, понятия, в самой своей этимологии подразумевающее событие. Естественно, эта связь отлична от физической, но ее нельзя сводить и к идеальной. Она может быть выражена словом «эффект». Делез, рассматривая отношения слов в предложениях и отношения слов к событиям, приходит к необходимости выделения отношения смысла.
Смысл, согласно его взглядам, существует сам по себе, ибо, например, в софизмах и парадоксах он выше истинности [2, с. 35].
Здесь, на наш взгляд, содержатся наиболее адекватные ориентиры для рассмотрения проблемы смысла. Говоря, что смысл обретается (обитает) на поверхности, мы имеем в виду, что смысл «обладает иной природой», чем сознание в виде нашего даваниязначения чему-либо, а также, чем вещи сами по себе. Он не имеет ни физического, ни ментального существования. Такая ситуация имеет грандиозную практическую силу и намного достовернее, чем все теоретические изыскания идеалистов. Ведь смысл существует именно в предложении, высказывании стихотворной строки. Он живет, пока живет субъект, говорящий что-то своей деятельностью и всей своей жизнью.
Ж. Делез выражает это в единстве и дуальности телесных вещей и бестелесных событий вещей, когда мы говорим «его глаза метали молнии», «у нее загорелись глаза», «печаль разрывает сердце» и т.д., и т.п.
Дуальность и единство проявляются в денотации – обозначении вещей и выражения смысла как выход вещи за свои ближайшие пределы [3, с. 720].
Своеобразные доказательства существования смысла обнаруживаются в том, что Делез называет «парадоксами смысла» [3, с. 50], и доказывает, что «…смысл безразличен и универсальному, и единичному, общему и частному, личному и коллективному, а также к утверждению и отрицанию и т.д.» [3, с. 52].
Делез развивает идеи о наличии серий событий и серий вещей, группирующихся в соответствии с неким «парадоксальным элементом, раз-личителем – особым событием – сингулярностью. Последняя выражает собой своеобразные соответствия, идеальное событие, помогающее образованию структур. Вот как это объясняет Делез: «Это сингулярность, или, скорее, совокупность сингулярностей, сингулярных точек, характеризующих математическую кривую, физическое положение вещей, психологическую и нравственную личность. Это поворотные пункты и точки сгибов, узкие места, углы преддверия и центры; точки плавления, конденсации и кипения; точки слез и смеха; болезни и здоровья, надежды и уныния, точки чувствительности» [3, с. 73].
Последние слова, касающиеся человеческой души, прекрасно демонстрируют нам сущность религиозных воззрений на душу как творца своего мира, т.е. внутренние события формируют внешние. Здесь также можно заметить аналогии юнговской теории синхронистичности, когда события – внешние и внутренние – выстраиваются в ряд, имеющий одну красную линию, и объясняющий момент – их общий смысл.
Вышеизложенный анализ феномена смысла в контексте теории самоорганизации является гносеологическим основанием для утверждения о том, что целостность человека существует посредством приобщения к надсубъективному смыслу, который имеет нравственную природу. Но это отнюдь не говорит о том, что объективность смысла превосходит его субъективный, внутренний мир человека. Единство объективного и субъективного проявляется здесь в онтологичности, присущей как субъективным толко- ваниям мира, так и смысловому безотносительному содержанию, являющимся отражением упорядоченности бытия, самоорганизующегося посредством смысла.
Из всего вышесказанного следует, что роль философствования в культуре состоит в способности, заключающейся в самой ее природе как знания универсального, объединять различные дискурсы и формы творчества в силу опоры на некие надвременные и до конца не выясненной природы образования – смыслы. При этом именно философское творчество опирается на архетипические смысловые формы.
Вполне уместным здесь будут аналогии с понятием «архетип из теории коллективного бессознательного К. Юнга, в которой он рассматривает последние как некие надкультурные, а по сути – надчеловеческие формы, по которым организуется психическая деятельность человеческого сознания, а также канализируются духовные процессы, протекающие в культуре. Так, архетипы в теории К. Юнга предстают как некие надрациональные (где рациональное понимается в первую очередь как ограниченная известным содержанием функция мышления) и надиндивидуальные структуры, призванные канализировать ментальные процессы [см.: 6]. В целом, относительно смыслового формального и содержательного аспекта архетипов Юнг склоняется к тому (и, по-видимому, это «здоровая» позиция), что строгие формулировки в определении архетипа неприменимы, поскольку вследствие его непроясненной природы из-за невозможности человека увидеть «чистое бытие», находящееся вне социально-культурных форм, обуславливающих деятельность сознания, мы можем фиксировать лишь его функциональные проявления. Это некая форма, которая изменяет свое содержание, но как форма остается неизменной. Однако здесь мы имеем основание возразить такой позиции Юнга, поскольку философствование есть как раз-таки творческое позиционирование себя в социокультурном пространстве, но, конечно же, с опорой на устойчивые формы.
Философский дискурс демонстрирует свой универсальный и интегративный характер в социокультурном пространстве, создавая при этом уникальные специфичные формы позиционирования человеком себя в мире. В связи с поставленной проблемой возможности творчества в контексте философствования, мы выяснили, что, несмотря на наличие структурности в при- роде смысла, творчество в этой форме позиционирования себя в мире возможно. Так, философствование как вид творчества, по аналогии с сократовской «майевтикой» – искусством рождения истины в процессе спора, позволяет всем культурным формам оставаться динамичными, находясь в постоянном диалоге между собой, тем самым не застывая в своих собственных формах, несмотря даже на то, что смысл пред- стает как механизм опоры на некие трансиндивидуальные формы сознания, вскрывающиеся в процессе философствования [6, 8]. При этом открывается возможность для критики и последующего вскрытия ложных и искусственных – то есть не соответствующих универсальным философскими смыслам – культурных, социальных стереотипов и психологических установок и паттернов.
Список литературы Философские смыслы как упорядочивающие принципы бытия человека в культуре
- Введение в философию: Учеб. пособие для вузов/Авт. кол.: Фролов И. Т. и др. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Республика, 2003. 623 с.
- Делёз Ж. Логика смысла. М.: Академический Проект, 2011. 472 с.
- Зотов А.Ф. Современная западная философия. М., 2005. 781 с.
- Князева Е., Туробов А. Единая наука о единой природе//Новый мир. 2000. № 3. с. 160-178.
- Кортунов В.В. Имитация здравого смысла. Очерки по теории мировой культуры. М., 2001.
- Кортунов В.В. Рациональное и иррациональное в эволюции культурно-исторических типов миро-воззрения. Дис. … д-ра философ. наук/Гос. ин-т искусствознания. М., 1999.
- Кортунов В.В. Человек между реальностью и киберпространством//Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2013. № 1 (21).
- Кортунов В.В., Шелекета В.О. К вопросу о философско-культурологическом обосновании гума-нитарной экспертизы социально-политических процессов//Сервис plus. 2014. Т. 8. № 4. С. 9-14.
- Фуко М. Археология знания. СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2012. 416 с.
- Юнг К. Г. Душа и миф. Шесть архетипов. М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2005. 351 с.
- Kortunov V. Modernization of Russia in the Context of Cultural Experience of the East and West//Middle East Journal of Scientific Research. 2013. Т. 14. № 1. С. 41-46.