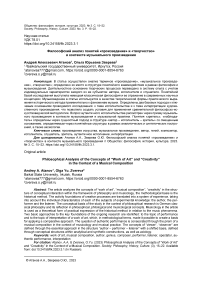Философский анализ понятий «произведение» и «творчество» в контексте музыкального произведения
Автор: Атанов Андрей Алексеевич, Зверева Ольга Юрьевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье осуществлен анализ терминов «произведение», «музыкальное произведение», «творчество»; определено их место в структуре понятийного взаимодействия в рамках философии и музыковедения. Деятельностное основание творческих процессов переведено в систему опыта с учетом индивидуальных характеристик каждого из ее субъектов: автора, исполнителя и слушателя. Понятийной базой исследования выступила немецкая классическая философия и ее отражение в современных научных концепциях. Музыковедение в статье используется в качестве теоретической формы практического выражения исторического метода применительно к феноменам музыки. Определены два базовых подхода к ключевым основаниям проводимого исследования: к теме исполнительства и к теме интерпретации художественного произведения, что позволило создать условия для применения сравнительной философско-искусствоведческой методологии. Вопрос аутентичного исполнительства рассмотрен через призму музыкального произведения в контексте музыковедения и музыкальной практики. Понятия «зритель», «наблюдатель» определены через сущностный подход в структуре «автор - исполнитель - зритель» со смещенным основанием, определяемым через понятийные структуры в рамках аналитических и синтетических построений, а также аксиологии.
Произведение искусства, музыкальное произведение, автор, гений, композитор, исполнитель, слушатель, зритель, аутентичное исполнение, интерпретация
Короткий адрес: https://sciup.org/149142221
IDR: 149142221 | УДК: 78.01 | DOI: 10.24158/fik.2023.3.1
Текст научной статьи Философский анализ понятий «произведение» и «творчество» в контексте музыкального произведения
Введение . Целью нашей работы является исследование понятия «музыкальное произведение» в системе как музыковедческой, так и философской теории, в том числе в историческом контексте. Сложности проводимой работы связаны с тем, что в музыке весьма трудно отделить творческий процесс от итоговой «формы». В этой связи нужно четко отличать произведение от творения. Оно может быть результатом творчества, но «форма» для него является определяющей. Творческий процесс – это не то же самое, что создание произведения, он подчинен другой логике и связан с иными сущностными основаниями. Поэтому рабочим определением музыкального произведения может быть система соответствия критериям, указывающим не только на сущность, но и на историческую определенность. Здесь и возникает множество подходов, исходя из различных оснований, к феномену музыкального произведения – классика европейская, классика средневосточная, классика дальневосточная, импровизация и т. д. Поэтому при анализе образцов музыкального искусства, кроме культурных особенностей, нужно учитывать множество критериев, например, вдохновение, без которого невозможна импровизация.
Обучение музыке включает в себя систему интерпретаций. Классическое ее понимание – соотнесенность произведения и его смыслов, которую в процессе музыкального обучения ученик запоминает, что и составляет предметное основание для работы с музыкальной литературой. Ключевое понятие – «память», отсылающее к устоявшимся смыслам, то есть к форме произведения. Историческая методология, применяемая к музыке – это не память о сущности, но возможность анализа явлений, составляющих музыкальное произведение, так как в ходе него раскрывается процессуальное основание, что позволяет перейти к понятийной определенности «основы» и «обоснованного». Например, после вагнеровской реформы оперного театра стало учитываться положение артистов, рассадка, появился вагнеровский лейтмотив: героиня думает о герое, и в произведении звучит мелодия, связанная с ним. По мнению Р. Вагнера, литературный текст не способен передать глубину чувств и эмоций, поэтому только музыка раскрывает их глубину (Вагнер, 2001). По сути дела, в рамках музыкального произведения закладывается такое понятийное основание, как глубина, что качественно меняет характер понимания человеческой эмоциональности и систему аксиологических представлений. Кроме того, оркестр уже не просто аккомпанирует солистам, как это было раньше, а благодаря вагнеровской реформе музыки становится равнозначен им. В своей практической деятельности Р. Вагнер создал новый тип не только музыкального произведения, но и театра, ему соответствующего – новый тип театрального здания, новый тип театральных кресел; изменилось также либретто.
Самая известная певица планеты в настоящее время – Бейонсе. Что стоит за образами и смыслами, которые она транслирует на аудиторию? Высочайший музыкальный профессионализм, предельно сложные произведения, авторство которых трудно установить из-за особенностей их создания, целая индустрия, связанная с проектом «Бейонсе», бенефициары которого не очень известны, выражаемые певицей идеи феминизма и африканской культуры. Создан предельно сложный и неоднозначный образ. При этом, если брать социальный контекст, воинствующие феминистки осуждают Бейонсе за ее счастливую семейную жизнь и ее успешную самореализацию в качестве матери троих детей.
Задачами нашего исследования из-за особенностей описанных выше феноменов будут:
-
1. Определение взаимодействия понятийных оснований различного порядка в искусстве, в том числе в музыке, осуществляемых посредством философского и искусствоведческого анализа.
-
2. Выделение аксиологических оснований для проведения анализа музыкального произведения и творчества.
-
3. Проработка системы для включения научных концепций в культурфилософское знание на базе диалектических понятий «основа» и «обоснованное».
Методы . Методологической базой нашего исследования является построение целостной системы практического воплощения музыкального произведения с использованием философских понятий, но с сохранением опытной определенности феноменов искусства и музыки. Применяется исторический метод исследования, сопряженный с системой дедуктивных построений в диалектических категориях основы и обоснованного.
Фактор наличия исполнителя в музыке создает особую форму искусства. При непосредственном восприятии произведения мы усваиваем интерпретацию именно его, а не автора (Якупова, 2015). Произведение каждый раз исполняется по-разному, его звучание зависит от инструментов, состояния голоса и физиологии певца и т.д. Отличие музыкальной записи от непосредственного исполнения для профессионалов равноценно отличию фотографии картины от самого оригинального полотна в изобразительном искусстве.
Для классического актера существует понимание отличий личной жизни и ролевой; для блогера, к которым относятся все известные современные музыкальные исполнители, исчезает грань между творчеством, личной жизнью, коллективными и личными ценностями и бизнесом.
Бейонсе как проект – это хороший контент, качественно сделанный, в нем исполнители – это фигуры, играющие определенную роль. До настоящего времени они не имели такого веса и не выполняли таких функций. Акцент сейчас смещен на исполнителя, но в настоящее время в разрезе контента, а не оркестра и исполнителя, как у Р. Вагнера, понятийно – это другая определенность с гораздо большей вовлеченностью в художественный процесс социальных детерминантов и нарративов. Но нужно помнить, что Бейонсе 2003 года и 2023 года – это совершенно различный контент и месседж.
С другой стороны, музыка имеет абстрактную форму. Кроме звуков, в ней присутствует ритм, метр; значение имеет и отсутствие звука – пауза, что создает предельно четкую понятийную определенность музыкального произведения. Один из профессиональных исполнителей описывал процесс обучения музыке выражением «учишься как зверушка». В этот момент крайне затруднительно говорить о музыке как о ценности, значимыми являются музыкальные понятийные построения.
Для решения задач исследования возникает необходимость перехода к ценностным определениям. Личный опыт музыканта указывает на необходимость изучения ассоциативных связей, через которые мы можем обнаружить ценностное основание, но данный подход создает и определяет только общность, а не всеобщность. Приведем некоторые высказывания музыкантов-практиков, касающиеся определения процесса обучения музыке, работы в качестве музыканта, окончания музыкальной карьеры и чувств, связанных с этим: «Когда приступаешь к практической деятельности в области музыки, начинаешь понимать свой уровень относительно других исполнителей»; «Когда играешь, жизнь приятней, чем работа, которой я занимаюсь сейчас»; «В оркестре приятно – не зависишь от других людей, людям нравятся атмосфера, единый коллектив, который делает единое дело, не из-за зарплаты, удовлетворенности больше»; «Ощущение молодости»; «Сейчас вижу, как люди стареют»; «Музыка не стареет»; «Сейчас в оркестре служат люди, которых я не знаю»; «С музыкой связано много разных историй, не всегда веселых». В ценностном плане это уже другой подход к жизни, не связанный с процессом обучения и системой интерпретации музыкальных произведений, здесь мы можем наблюдать четкое отличие состояний в аксиологической определенности «до» и «после», что может быть описано как сущностный исторический переход в рамках исторической методологии, но с сохранением аксиологических оснований.
В базовом приближении к постановке проблемы исходим из дедуктивных оснований, возникающих в исторической определенности. Для начала предполагается рассмотрение музыкального произведения в контексте более широкого понятия, такого как искусство. Подводя итоги многочисленных дискуссий, А.В. Михайлов отмечает, что вопрос о статусе произведения искусства со временем только усложняется и решенным так до сих пор и не стал1. Объясняя свою позицию, А.В. Михайлов делает отсылку к переведенной им работе М. Хайдеггера «Исток художественного творения» (Хайдеггер, 2005). Для раскрытия смысла текста он использует в своем переводе слово «творение», а не «произведение». Таким образом, переводчик уже в конце XX в. видел необходимость отсылки к качественно другому процессу в рамках изменившихся исторических и социальных условий.
М. Хайдеггер, рассматривая вопрос о происхождении сущности произведения искусства, устанавливает взаимосвязь и взаимозависимость художника и произведения: одно без другого не существует, каждое из этих оснований служит основой для другого. Причем они в совокупности, а не по отдельности оформляют подходы к обоснованному, которое выступает в качестве диалектической категории, снимающей противоречие в системе взаимодействия «художник – произведение». Однако существует и третий аспект, возникающий при анализе, – само искусство, «действительность искусства – в творении», а «исток художественного творения и художника есть искусство» (Хайдеггер, 2005). Появляется дихотомическая трактовка, которая может быть раскрыта только через четкую определенность сущностных оснований.
Важно понимать, что именно нуждается в дефинировании, какой смысловой сдвиг является допустимым, ведь понять сущность одного компонента без двух других невозможно. В результате у нас выстраивается неравновесная структура, состоящая из трех частей: искусство – художник – произведение искусства, которая может мутировать, создавая различную смысловую значимость, определяемую в контексте как изолированных сущностей, так и тех, которые возникают в рамках вводимого в качестве основания системы неравновесия, отсюда и необходимость использования структуралистской методологии.
Выше мы отметили наблюдаемое в современности смещение позиции ключевых акторов в музыке. Отсюда – «индустриальность» современных авторов и исполнителей, процесс создания музыкальных произведений становится коллективным, автора весьма сложно определить.
Дихотомичность XX века в веке XXI исчезает, так как оформляется совершенно иные структуры, с другими действующими субъектами, гораздо менее персонализированными и совершенно не связанными с выделяемыми исследователями XX в. понятиями. Поэтому преемственный анализ с его методологическими установками, характерный для искусствоведения прошлого столетия, оказывается не слишком актуальным.
Результаты . Можно рассматривать произведение как существующее самостоятельно и обладающее некой автономностью, однако создано оно художником, возникает смысловая пара: творение – сотворенность, как отмечает М. Хайдеггер, для поиска «истока художественного творения» мы должны обратиться к деятельности художника (Хайдеггер, 2005). Но здесь возникает еще один сущностный момент: практически мы достаточно легко отличаем ремесло от искусства, однако с трудом можем осознать разницу в сущностных характеристиках того и другого. Если мы по-нятийно хотим охарактеризовать момент перехода от деятельности к практике, нужно учитывать следующее: граница сущностных характеристик возникающего произведения заключается в его непосредственной данности. Тема непосредственности весьма сложно определяется именно в сущностном, а не в атрибутивном основании. Граница как понятие отсылает нас к горизонту события и его качественным характеристикам. В данном контексте и становится возможным решение вопроса о соотношении искусства и ремесла, то есть двойственность уходит, и переносится к границам наблюдаемой определенности, то есть из онтологической неопределенности возникает гносеологическая значимость. Сложность решаемой проблемы заключается не только в наличии наблюдателя, у него должны быть теоретические основания системы понимания, хотя бы в терминологической определенности. В античности выделенное нами противоречие терминологически снималось, ведь для обозначения и ремесла, и искусства использовался один и тот же термин techne – то, что указывало на присутствие нечеловеческого действия в системе навыка.
Греки четко фиксировали отсылку к предельности смысла, чего лишены современные исследования об искусстве и творчестве, зачастую сводимые к системе деятельности, что мы и наблюдаем у М. Хайдеггера, представляющего определенную традицию понимания. Исходя из сущностных оснований исследования как возможности перехода от онтологичности произведения к гносеологической определенности наблюдателя, мы полагаем, что не нужно обращаться к деятельности художника, достаточно учесть предельность смысла как актуальности понятия «граница», в данном контексте открытого в гносеологии и закрытого в онтологии и праксеологии; достаточно вспомнить «бытийствующий простор» того же М. Хайдеггера. Именно этот методологический подход как границу перехода основы в обоснованное мы и предлагаем использовать в музыковедении. Историческое раскрытие проблемного поля не всегда указывает на наличие преемственности, поэтому в качестве возможного выступает сущностно-событийный анализ с позиции наблюдателя, указывающий на структурную определенность возникающих исторически феноменов, что было невозможно в онтологии, так как мы имеем дело с объектом не как с таковым, а в форме музыкального произведения, отсюда не только общность, но и особенность методологических установок.
Понятийно речь идет о других процессах, где в одном основании смешиваются и творческий процесс, и процесс формализации (оформления) произведения. Представление об искусстве (в определенной степени о любом явлении культуры (Красноярова, 2010)) как о результате деятельности человека даже в этом контексте не позволяет решить проблем понятийной определенности.
Г. Гегель отмечает, что может быть сделан вывод о возможности абсолютно любым человеком создавать художественные произведения при условии ознакомления им с правилами осуществления творческой деятельности. И для практической ее реализации нужны, таким образом, только некие действия и определенная сноровка. Несмотря на это, создать при таких условиях можно только «нечто формально правильное и механическое» (Гегель, 2007: 101). Правила весьма абстрактны и не могут заменить самостоятельную деятельность. «Художественное творчество не является формальной деятельностью по заданным правилам» (Гегель, 2007: 101). Вместе с тем ни регламенты художественного творчества, ни их ценностные основания не определены, указание на их абстрактность и позволяет нам перейти к понятийной дифференциации.
Творчество вообще, безусловно, не формальная деятельность по заданным параметрам, однако создание конкретного художественного произведения, напротив, осуществляется по определенным алгоритмам с учетом конкретных критериев. Основанием и того, и другого является предельность, отсылающая к измененному смыслу.
Р. Вагнер с пониманием того, что музыка позволяет ввести при анализе эмоций человека понятие глубины, выражает в нераскрытой понятийно форме именно заявленный нами подход, и дело совсем не в музыке, а в том, что в ней скрыто (Вагнер, 2001). Однако раскрывается сокрытое только через музыку в отношении смысла: мы узнаем новое о природе и характере чело- веческих чувств, хотя изначально речь шла только о формах музыкальной организации. Рождается новое, о чем сказано у Р. Тагора: «На берегу океана играют дети»1. Смысл этого предложения не буквален. Направление следования в раскрытии содержания зависит только от творческого процесса. Фраза из Р. Тагора является одной из ключевых для понимания смысла книги Д. Винникотта «Игра и реальность» (Винникотт, 2002), в которой идет речь о человеческих чувствах. Ассоциация, указывающая на ценностную определенность с дальнейшим переходом к понятию, – один из важнейших аспектов человеческого творчества. Подходы к такой его трактовке на примере музыки мы и предлагаем в нашей статье.
Обсуждение . Смешение понятий с переходом от процесса творчества как такового к практике приводит к следующему: мы впадаем в «противоположную крайность», утверждая, что способность создавать художественное произведение не является общей для людей, а выступает исключительно свойством «своеобразно одаренного ума». Для целей анализа нужно понятийно разделить процесс творчества и процесс создания художественного произведения. Ведь по результирующим основаниям и по сущности это совершенно разные проявления человеческой деятельности.
Г. Гегель описывает различие таких «умов»: «Талант является специфической, а гений – всеобщей способностью, которые человек не может приобрести посредством самосознательной деятельности» (Гегель, 2007: 102). При этом и талант, и гений не являются просто состояниями вдохновения, обусловленного природой, а выступают саморефлексией, определяемой необходимостью приобретения конкретных навыков и умений. В логическом плане мы не можем согласиться с таким подходом хотя бы по той причине, что искусство должно быть выделено как объект, что абсолютно невозможно в процессе саморефлексии, так как она подразумевает самопроизвольные субъектные отношения, исключающие наличие объекта.
Далее следуем за Г.В.Ф. Гегелем и находим подтверждение нашим наблюдениям: «так как художественное произведение порождается духом, то оно нуждается в производящей субъективной деятельности, из которой оно проистекает (Гегель, 2007: 328). «Ведущей художественной способностью следует считать фантазию… Фантазия является творческой… Эта творческая деятельность предполагает прежде всего дар и склонность к схватыванию действительности и ее форм…» (Гегель, 2007: 329). «Этим даром формирования художник обладает не только как теоретическим представлением. Силой воображения и чувством, но также и непосредственно как практическим чувством, то есть даром действительного исполнения. В подлинном художнике соединяется и то, и другое. То, что живет в его фантазии, у него как бы переходит в пальцы… Подлинный гений во все времена легко справлялся с внешними сторонами технического исполнения» (Гегель, 2007: 333).
Признаем гениальность Гегеля, но в данном конкретном случае имеет место предельное расширение сущностных оснований, в результате чего мы перестаем понимать, о чем идет речь. У Гегеля в его рассуждениях, чем грешил и К. Маркс, идет бесконечная череда неопределенных понятий: чувство, сила воображения, творческая деятельность, фантазия, творческая способность, художественное произведение порождается духом, производящая субъективная деятельность, дар, схватывание действительности и ее форм, гений, талант и т.д. То есть налицо отсылка не к объекту исследования, а к субъективному опыту читателя. Возникает резонный вопрос, почему, по мнению Гегеля, именно фантазия, а не что-то другое, переходит в пальцы? Исходя из современных психологических теорий, фантазия относится к бессознательному, а творческие процессы – это реализация эго. Творчество в его реализации связано с сексуальной энергией, но в бессознательном есть только инфантильная сексуальность, поэтому возможность реализации и раскрытия творческого процесса, отнесенная к бессознательному, как мы это отмечаем у Гегеля, не соответствует концепциям современного научного знания, так как это не творческий процесс, а одна из структур данности бессознательного, которая не может быть охарактеризована ни структурно, ни системно из-за общей неопределенности и акцентуации на детстве и детских проявлениях. В результате происходит понятийный сбой и нарушается система указаний на процесс, выступающий в качестве объекта, в нашем случае – это создание художественного произведения.
Гегель считает обязанностью художника довести изначальную способность до виртуозности, но сама возможность действительного исполнения «должна присутствовать в нем как природный дар» (Гегель, 2007). При этом нельзя создать произведение исходя из одного только намерения или вдохновения.
В рамках рассуждения Г.В.Ф. Гегеля мы оказываемся в довольно зыбкой области воображения и фантазии. На уровне логики нужно отметить, что не любая фантазия является творческой. Творчество – это умение «родить», создать то, чего не было. По сути, логическим основанием для понимания художественного процесса является вхождение сущности в существование, причем сущность должна быть уникальна или соответствовать критериям новизны. Фантазии могут быть и у шизофреника, и у параноика, только это не основа для творчества, а результат болезненного расстройства. Отличие творчества от болезни заключается в качестве фантазии: в первом случае она отделяется от своего создателя, входя в реальность и изменяя ее структуру, высвечивая новое в плане видения.
М. Хайдеггер в своих размышлениях приходит к выводу, что «становление творения творением – это один из способов становления и совершения истины» (Хайдеггер, 2005). Смысл искусства для него прежде всего заключен в открытии и раскрытии истины. Именно эта идея, с точки зрения А.В. Михайлова, не является сегодня актуальной. Говорить о сущности искусства настолько пафосно и возвышенно мы больше не имеем права1. По нашему мнению, речь идет, скорее, о нечеткой понятийной определенности: категория истины в контексте творчества представляется желательной, но неуместной хотя бы из-за ограничений, накладываемых человеческими и природными характеристиками в системе музыкального творчества.
А.В. Михайлов предлагает использовать два обозначения (причем он подчеркивает, что употреблять слово «понятие» в данном случае неуместно): «то, что» и «то, о чем»2. Обратим внимание на переход от понятий, которыми пользуется М. Хайдеггер, к их обозначениям, то есть искусство, творения, творчество переводятся в новую смысловую область, которая, по мнению А.В. Михайлова, больше подходит для описания творческих процессов. Исследователь предлагает единое «что» разделить на «то, что» и «то, о чем». «То, что» он связывает с «конструкцией, то есть с осуществлением смысла средствами этого искусства», «то, о чем» «выходит из этой конструкции и предполагает, что некоторый смысл… имеет некоторую самоценность»3. Причем А. В. Михайлов отдельно подчеркивает, что нельзя сводить данную структуру к форме и содержанию. Сегодня, по его мнению, «искусство кончилось», поскольку «то, о чем» оказывается отдельным от «того, что», смысл и конструкция теперь не совпадают. «Искусство начинает рефлексировать о самом себе для того, чтобы самое себя создавать» (Хайдеггер, 2005).
На наш взгляд, это не совсем корректные наблюдения. Если искусство рефлексирует о самом себе, то исчезают объектные основания процесса творчества, создания художественного произведения и самого его существования. А.В. Михайлов, по сути, предлагает переход от понятийного анализа к знаковым системам, что, как нам кажется, является не вполне рациональным именно в указанном контексте, так как создается система качественно другого анализа (семиотического), по своим основаниям не имеющего отношения к творчеству и художественному произведению.
Г. Гегель утверждает, что в случае рассмотрения произведения искусства как внешнего объекта легко прийти к выводу, что произведение искусства – это мертвая структура (Гегель, 2007: 104). Истинное понятие искусства возможно в том случае, если мы не будем противопоставлять искусство как результат деятельности человека и природу как божественное творение. Высшее начало, по мнению Г. Гегеля, проявляется в художественном творчестве в активной, сознательной деятельности. Возникает резонный вопрос: как эти понятия оказались совмещенными? «Всеобщая потребность в искусстве проистекает из разумного стремления человека духовно осознать внутренний и внешний мир, представив его как предмет, в котором он узнает свое собственное “я”» (Гегель, 2007: 106).
Не очень скромно, когда речь идет о внутреннем и внешнем мире, которые, по мнению Гегеля, нужны лишь для того, чтобы узнать собственное «я», смотрится все это в понятийном плане – излишне нарциссично, гносеологично и не слишком корректно.
У Гегеля искусство относится ко всеобщим потребностям, притом что критерии всеобщности в отношении потребности в искусстве философом не определены и даже не введены. Объем и содержание используемых им понятий, даже для целей количественного анализа, не говоря уже о качественном, оказываются не слишком сопоставимыми из-за отсутствия критериальной определенности.
Заключение . По результатам нашего исследования можно сделать следующие выводы. Из-за изменения социальной практики нужно признать наличие других оснований для анализа явлений искусства. По этой причине происходит усложнение структурной определенности понятия «музыкальное произведение».
Введение в систему исследования аксиологических компонентов в контексте музыкального произведения требует четкой их смысловой проработки, что на начальном уровне подразумевает использование ассоциативных цепочек (для определения позиции как автора, так и исполнителя) с целью указания на объекты ценностной определенности.
И. Кант в «Критике способности суждения» утверждает, что под искусством нужно понимать «созидание посредством свободы или произвола, полагающего в основу своих действий разум» (Кант, 1994: 144). Когда мы говорим о произведении искусства, мы всегда имеем в виду творение человека. Другими словами, если адаптировать наши рассуждения к указанному контексту И. Канта, то можно заключить, что использование аксиологического подхода позволяет сохранить историческую преемственность с классиками философии, но при этом появляется возможность качественной работы по анализу современного искусства без постоянной акцентации (акцентуация как термин здесь не слишком подходит из-за его излишней определенности в психологическом знании) на исторической данности. Изменяется статус понятия «обоснованное», которое может анализироваться в рамках научных подходов, сопряженных с объектом «искусство», при этом не отменяя ценности философских исследований.
Изящное искусство И. Кант рассматривал как искусство гения, понимая под последним «врожденную способность души, посредством которой природа дает искусству правила» (Кант, 1994: 148). Без наличия этих правил произведение искусства не может считаться таковым; отсылка к понятиям, выходящим за границы музыкального произведения, позволяет решить эту проблему.
И. Кант выделял следующие характеристики гения: 1) оригинальность, умение создавать то, чего раньше не было; 2) способность выступать образцом в творчестве для других; 3) невозможность самостоятельного рационального объяснения техники создания своего произведения; 4) основанность искусства на правилах природы (Кант, 1994). Поскольку мы изучаем музыкальное произведение, закономерно будет уточнить, что, говоря о гении, мы говорим о композиторе, в результате объект исследования сужается, исходя из поставленных нами задач работы в дихотомии теории и практики.
При анализе музыкального произведения критерии произведения и творчества оказываются соотнесенными с параметрами музыкальной формы, исторической эпохи и системы «автор – исполнитель». В структурном плане возникает смещающее основание, продуцирующее качественно иные смыслы. Оно оказывается обусловленным музыкальной практикой не как видом деятельности, а как формой творчества.
Список литературы Философский анализ понятий «произведение» и «творчество» в контексте музыкального произведения
- Вагнер Р. Кольцо Нибелунга: избранные работы. М.; СПб., 2001. 496 с.
- Винникотт Д.В. Игра и реальность. М., 2002. 265 с.
- Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 2 т. СПб., 2007. Т. 1. 623 с.
- Кант И. Сочинения: в 8 т. М., 1994. Т. 5. 414 с.
- Красноярова О.В. К вопросу о коммуникативной стратегии современного массового общества // Известия Иркутской государственной экономической академии. 2010. № 5. С. 188-192.
- Хайдеггер М. Исток художественного творения. М., 2005. 526 с.
- Якупова О.А. О правах автора и интерпретатора музыкального произведения (спор композитора и исполнителя) // Художественное образование и наука. 2015. № 2. С. 177-183.