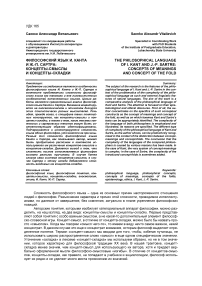Философский язык И. Канта и Ж.-П. Сартра: концепты-смыслы и концепты-складки
Автор: Саенко Александр Витальевич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 8, 2020 года.
Бесплатный доступ
Предметом исследования являются особенности философского языка И. Канта и Ж.-П. Сартра в контексте проблематики сложности философского языка как такового и вне лингвистических особенностей естественных языков. Целью работы является сравнительный анализ философского языка Канта и Сартра. Внимание акцентируется на гносеологическом и этическом дискурсе этих стилистически разных мыслителей. Речь идет, прежде всего, о специфике таких понятийных конструктов, как концепты-смыслы и концепты-складки, а также о том, какие лексемы кантовских и сартровских текстов могут быть соответствующим образом идентифицированы. Подчеркивается и иллюстрируется сложность языка обоих философов, уточняются ее причины. Разный тип сложности философского языка Канта и Сартра, как показывает автор, может быть продуктивно распознан в контексте используемого им различения концептов-смыслов и концептов-складок. Делается вывод о том, что сложность языков сопоставляемых философов вызвана разными причинами. В случае Канта сложна сама система концептов-смыслов, в случае Сартра к этому иногда добавляется сложность вводимых им концептов-складок.
Философский язык, философские понятия, концепты-смыслы, концепты-складки, гносеология, этика, и. кант, ж.-п. сартр
Короткий адрес: https://sciup.org/149134857
IDR: 149134857 | УДК: 165 | DOI: 10.24158/fik.2020.8.9
Текст научной статьи Философский язык И. Канта и Ж.-П. Сартра: концепты-смыслы и концепты-складки
Сложность философского языка - одна из основных причин настороженного отношения людей к философии. Разъяснение характера и причин этой сложности, проводимое интеллектуалами, но далекое от завершения, без сомнения, актуально в плане укрепления философских позиций.
Авторские понятия, которыми изобилует категориальный аппарат философии, можно разделить, на наш взгляд, на два вида: концепты-смыслы и концепты-складки . Первые представляют собой понятия с особо важным смыслом, а не какой-то дополнительный элемент философско-словесной игры. Концепт-смысл, в отличие от концепта-складки, можно было бы назвать просто «смыслом». Когда мы говорим «смысл чего-то», то имеем в виду нечто самое важное, некий концентрат. В данном случае это еще и концентрат внимания, которым философ выделяет определенное понятие. Термин «концепт-смысл» мы вводим для того, чтобы, избегая путаницы, не использовать широко распространенное слово «смысл» в еще одном специфическом значении. Уточнение «складка» в лексеме «концепт-складка» мы используем образно, но не в том значении, которое характерно для философской традиции XX века. В нашей трактовке, концепт-складка менее значим, чем концепт-смысл для использующего их автора, хотя и придает вербально оформленной мысли философско-смысловые «изгибы». В отличие от концептов-смыслов, концепты-складки, как правило, не попадают в учебники и энциклопедии, философ использует их редко и не уделяет много места прояснению их значений.
Критерии концептов-складок:
-
• это авторские философские понятия;
-
• они используются эпизодически или даже разово без обстоятельного прояснения их значений и длинной цепочки рассуждений;
-
• использование их обусловливает определенную стилистику текста, порой делая его, по задумке автора, не до конца понятным.
Критерии концептов-смыслов:
-
• это также авторские философские понятия;
-
• к ним с особым вниманием относятся сам философ или философское сообщество (или обе стороны сразу);
-
• автор старается обстоятельно прояснить его содержание, хотя это не гарантирует того, что оно адекватно может быть понято научным сообществом.
Наши тезисы о демаркации концептов-складок и концептов-смыслов, об их различном статусе и функционировании в философских текстах, более подробно изложенные в статье «К типологии философских понятий и текстов» [1], мы попытаемся подтвердить, обратившись к рассмотрению работ И. Канта и Ж.-П. Сартра.
Имеет смысл утверждать: несмотря на то, что философский язык Канта достаточно сложен, в нем нет концептов-складок; вероятно, немецкого мыслителя не очень привлекала нарочито усложненная лексика. Сартр, напротив, будучи и литератором, находил, видимо, в такой лексике определенное эстетическое наслаждение.
Сложность кантовского языка отмечает, в частности, Джордж Генри Льюис, уточняя, что не только содержательная новизна взглядов, но и отталкивающая терминология вкупе с тяжелым изложением мешали в течение долгого времени разглядеть достоинства критической философии [2]. На наш взгляд, сложность языка Канта вызвана, прежде всего, сложностью решаемых им проблем, а не терминологической изощренностью.
Вспомним, как сам немецкий мыслитель относился к недопониманию его концепции. Предполагая, что его работа будет пониматься с трудом, он предуведомляет: «Я счел нецелесообразным еще более расширять его [сочинение] примерами и пояснениями, которые необходимы только для популярности , между тем как мою работу нельзя было приспособить для широкого распространения, а настоящие знатоки науки не особенно нуждаются в такого рода облегчении» [3, с. 15]. В «Пролегоменах», призванных прояснить смысл первой «Критики», обнаруживаем схожий мотив: «Откровенно говоря, мне странно от философа слышать сетования на недостаточную популярность, занимательность и легкость, когда дело идет о существовании столь прославленного и необходимого для человечества познания, которое может быть осуществлено не иначе как по строжайшим школьным правилам; со временем придет и популярность, но быть с самого начала она никак не может» [4, с. 13]. Тот факт, что труд стольких лет остался недопонятым, сильно задел Канта. Он в сердцах заявляет, что нет необходимости каждому заниматься метафизикой, а тот, кто ею все же занялся, может попытаться решить возникающие задачи более легким способом [5].
Надо думать, что философ, так отреагировавший на «непрозрачность» для читателя его идей, не мог заниматься творчеством априори усложненных концептов-складок, ибо в таком случае текст был бы наверняка еще более трудным для восприятия. Кантовский язык, в данном случае язык гносеологический, скорее проясняет (насколько вообще возможно), нежели затуманивает излагаемую концепцию.
С гносеологией Канта тесно связана и его этика. При очевидной дискуссионности творческого наследия Канта и его главных интенций мы примыкаем к той интерпретации, согласно которой гносеология выступает основанием его этики. Выделив ее основное понятие, мы постараемся доказать, что оно может быть истолковано как концепт-смысл. Разумеется, нас будет интересовать по преимуществу понятие свободы.
С точки зрения Канта, человек способен понять только то, что сам и порождает. Разум оперирует идеями, которые конструирует при помощи творческого воображения. Идеей называется здесь «такое необходимое понятие разума, для которого в чувствах не может быть дан никакой адекватный предмет» [6]. Идея свободы, наряду с идеей Бога и бессмертия, одна из главных в кантовской концепции. В мире интеллигибельном царствует свобода, в мире феноменальном -законы природы. Человек свободен, потому что принадлежит не только феноменальному, но и интеллигибельному миру. Моральная философия открывает интеллигибельный закон функционирования морали - категорический императив, и этот закон более высокий, чем любой из естественно-научных законов. Он гласит: «Поступай согласно максиме, которая в то же время может иметь силу всеобщего закона» [7, с. 247].
Нас интересует, повторимся, понятие свободы, моральной свободы (в контексте идентификации их как концептов-смыслов) и связанное с ними понятие морального закона. Тут мы следуем интерпретации С.Н. Кочерова, подчеркнувшего имеющееся у Канта «различие между свободой как условием и как высшим выражением морали» [8, с. 5]. О моральном законе кенигсбергский философ не забывает, даже благоговейно наблюдая за звездным небом над головой, а внутреннюю свободу человека (как существа интеллигибельного) усматривает основанием человеческих отношений и в мире эмпирическом. Без свободы в нас не было бы и морального закона [9].
Стоит обратить внимание на связь этических и естественно-научных взглядов Канта. В одной из работ докритического периода встречаем красивую гипотезу, согласно которой мыслящие существа тем совершеннее, чем дальше от Солнца находятся их планеты: «...От Меркурия до Сатурна, а может быть, еще и дальше (если за Сатурном существуют еще другие планеты), совершенство духовного и материального мира на планетах с правильной последовательностью возрастает и распространяется по мере их удаления от Солнца» [10, с. 251]. Только приняв во внимание эту мысль, можно понять и осознать глубину его знаменитого афоризма про звездное небо и моральный закон. Кант оказался прав, когда писал, что самые далекие от Солнца планеты являются газообразными. Гипотеза о том, что эти планеты населяют существа, состоящие из более тонкой материи и поэтому являющиеся более духовными, чем земляне, является для многих фантастичной. Но не для Канта, который сближает в ценностном плане звездное небо и моральный закон.
Значимость, которую Кант придавал понятиям «свобода», «моральная свобода» и «моральный закон», позволяет нам квалифицировать их как концепты-смыслы.
Теперь перейдем к особенностям философского языка Ж.-П. Сартра, опять же обращая внимание, прежде всего, на его гносеологию и этику и не забывая о том, что перед нами не только философ, но и литератор, а стало быть, он готов иметь дело со знаковыми структурами предельно широкой смысловой валентности [11].
В своем главном теоретическом трактате Сартр, как представляется, попытался реализовать ту задумку, по которой философский язык должен быть не до конца понятным. Иными словами, в нем обильно должны быть представлены концепты-складки. Однако одними ими не один философский текст обойтись не в состоянии, они все равно функционируют в окружении концептов-смыслов, среди которых в данном случае такие узнаваемые, как «в-себе-бытие», «для-себя-бытие», «бытие-для-других», «Другой», «свобода», «ответственность».
Другой, по Сартру, является необходимым условием нашего самопознания. Философ тратит немало сил на то, чтобы доказать существование такого Другого (вернее, на доказательство того, что доказательство Другого не нужно), предостерегая нас тем самым от опасности солипсизма. Решение проблемы увязывается с декартовским cogito , но не совсем обычно: не Другой выводится из cogito, наоборот, существование Другого делает возможным существование cogito [12, с. 382]. При этом указывается, что в защите от солипсизма мы не найдем поддержки у Канта, поскольку тот не доходит до экзистенциальных глубин субъекта и личности [13].
Кантовская «вещь в себе», как известно, представляет собой ловушку сознания: чтобы утверждать, что мы не знаем, какова вещь на самом деле, мы должны знать, какова она есть на самом деле. Если мы сведем Другого к ноумену, это ничуть не поможет нам в познании Другого и в опровержении солипсизма. По Сартру, намерение кантианцев и большинства посткантианцев подтвердить существование Другого ссылками на здравый смысл или на идею Бога не гарантируют гарантированного удостоверения в реальности Другого, а значит, не освобождают нас от угрозы солипсизма [14].
Для продуктивного преодоления затруднений Сартр обращается к концепциям Гуссерля, Гегеля и Хайдеггера и, проанализировав их, приходит к выводу о том, что никто не является подлинным солипсистом, сомнения в существовании Другого абстрактны и риторичны [15]. Поэтому в опровержении солипсизма нет необходимости.
Во взаимоотношениях Я и Другого Сартр подчеркивает два момента. Во-первых, Я прилагает «все усилия как субъект познания, чтобы определить в качестве объекта субъект, который отрицает мое свойство субъекта и сам определяет меня в качестве объекта»; во-вторых, «если сознание утверждается перед лицом Другого, то это значит, что оно требует признания своего бытия» [16].
Бесспорность существования Другого выражено в «Бытии и ничто» тем, что бытие-для-себя отсылается к бытию-для-другого. Учет Другого оказывается необходимым условием для самопознания Я. Важность, которую Сартр придает Другому, делает соответствующее понятие одним из самых ярких концептов-смыслов в его гносеологии и философии в целом.
Остановимся теперь на тех сартровских лексемах, которые можно идентифицировать как концепты-складки. Они нечасто встречаются в тексте «Бытия и ничто»: как правило, появляются единожды, внося в повествование некоторые дополнительные философские смыслы и придавая ему характерную стилистику. Концептами-складками выступают, в частности, слова обыденного языка, но наполненные измененным смыслом, как, например, «глаз» [17]. Они придают теоретическим текстам Сартра оттенок поэтичности (здесь, вероятно, сказывается влияние Хайдеггера).
В итоге получалась та «поэтическая» философия, которая стилистически заметно отличается от «сухого» языка Канта.
Другим выразительным концептом-складкой является сартровское « нет». При этом нужно учесть, что Сартр пишет его курсивом, несколько облегчая тем самым восприятие его семантики в тексте. «Нет» - это не просто частица или предикат, это понятие, обозначающее некоторый акт понимания: рабом - хозяина, заключенным - стерегущего его охранника. По Сартру, сторожа, охранники и тюремщики своей социальной реальностью всю жизнь воплощают реальность « нет » [18].
В качестве концептов-складок Сартр использует также дефисные вербальные конструкции. К примеру, «неверие-в-то-во-что-веришь», которое используется для того, чтобы прочертить маршруты между правдивостью, бытием и самообманом. А именно: правдивость убегает от «неверия-в-то-во-что-веришь» к бытию; самообман бежит от бытия к «неверию-в-то-во-что-ве-ришь» [19]. Употребив этот конструкт, философ больше к нему не возвращается, а занимается изобретением других концептов-складок, которые придают дополнительную усложненность его тексту, в котором, впрочем, главную роль играют все равно концепты-смыслы.
В этике Сартра вовсе нет места концептам-складкам, затрудняющим понимание сказанного, - безоговорочно главенствуют концепты-смыслы. Опорными выступают «свобода», «ответственность», «выбор». Они неразрывно связаны с понятием Другого.
Сартр выделяет несколько видов выбора. Один - повседневный: что поесть, что надеть и т. д. Это не ключевой выбор в жизни. Другой - экзистенциальный выбор, когда решения избежать нельзя, когда ты обязан прийти к определенному решению, скажем, «остаться с этим человеком или уйти от него», «пойти на войну или остаться дома». Это личностный выбор. Он всегда крайне сложен: мы все равно будем жалеть о той другой возможности, которую упустили, не реализовали. Как отмечает А.Н. Фатенков, французский философ разрывается между рядом экзистенциальных «выборных» стратегий, сводящихся в пределе к двум: 1) выбранное - всегда хорошо; 2) выбранное - всякое, если выбор свободен [20].
Осмысление экзистенциального выбора, в отличие от выбора тривиального, сильнее связано с концептом-смыслом «Другой». Сартровскую позицию ярко иллюстрирует фрагмент роман Роберта Хайнлайна «Чужак в стране чужой». Один из героев рассуждает о знаменитой скульптуре «Русалочка». В ее композиции Другим для русалочки оказывается принц, в которого она влюблена. Она сама - «каждый, кому хоть раз приходилось делать трудный, мучительный выбор. Она не жалеет о своем выборе, но должна сполна за него расплатиться; за каждый выбор приходится платить. И плата тут - не только вечная тоска по дому. Русалочка не стала совсем человеком, заплатив за свои ноги огромную цену, она навсегда обречена ступать ими как по острым ножам» [21, с. 420-421]. Думается, Сартр сказал бы, что русалочка обречена нести на своих плечах груз последствий своего экзистенциального выбора, по аналогии с тем, как каждому из персонажей пьесы «За закрытыми дверями» приходится находиться в аду с осознанием того поступка, который он совершил и который он уже никогда не исправит.
Возвращаясь к тексту «Бытия и ничто», подчеркнем, что «свобода» и «ответственность» используются автором в смысловых значениях, несколько отличных от обыденного словоупотребления. В частности, как указывается в комментаторской литературе, он продолжает метафизическую картезианскую линию (со всеми ее плюсами и минусами), связывающую свободу с отрицательностью [22]. В этом интерпретационном ключе становится понятна сартровская мысль, что свобода не может быть общей для меня и другого индивидуума и что нельзя узреть сущность свободы, потому что сама свобода выступает основанием всех сущностей [23, с. 659]. «Свобода является свободой выбирать, но не свободой не выбирать» [24]. Человек даже самоубийством не может отказаться от того, чтобы быть. Именно поэтому, видимо, Рокантен из «Тошноты», которому отвратительно его существование, и отказывается от самоубийства, ведь его тело после этого не перестанет существовать.
Рассуждая об ответственности, Сартр вновь некоторым образом повторяет Декарта, его я могу сомневаться во всем, кроме моего сомнения : «Я в действительности ответственен за все, исключая саму мою ответственность, поскольку я не являюсь основанием своего бытия. Стало быть, все происходит, как если бы я вынужден быть ответственным» [25]. Человек осужден на свободу и несет на своих плечах весь груз мира. Ответственность толкуется как осознание человеком неоспоримого авторства того или иного события. Она проистекает из свободы человека, от которой он не может отказаться ни в личной, ни в общественной жизни. За такую свободу философ держится и в своих отношениях с Симоной де Бовуар, и в отношениях к реалиям войны. Если он мобилизован, то война является и его виной; он мог избежать ее, совершив дезертирство или покончив с собой, но раз это не сделано, то война является его выбором [26].
О выборе речь идет и в той известной ситуации, когда к Сартру пришел за советом студент, разрывавшийся между индивидуальным и коллективным чувством долга. И тут молодой человек был обречен на выбор, поскольку даже «выбрать советчика - это опять-таки решиться на что-то самому» [27, с. 330]. Если юноша предпочтет войну заботе о матери, то он, как и всякий другой в подобной ситуации, не останется лишь соучастником, а будет нести ответственность за военные действия. «Соучастие» было бы уместно только с юридической точки зрения. Однако, по Сартру, участие в войне нельзя оправдать принуждением, поскольку то не может иметь влияния на реальную свободу [28].
Быть – это выбирать себя. Человек « ответственен , поскольку, он может быть, только выбирая себя» [29]. Выбирая себя, человек осуществляет действия для построения проекта себя. Бытие-для-себя стремится к тому, чего нет. И эти же самые действия есть выражение свободы. Ответственность и свобода связаны неразрывно. Поступать как все, делать то, что велит система – безответственно. Ответственность, в трактовке Сартра, отлична от общепринятого или обыденного стандарта. Для экзистенциального философа она в авторстве событийной ситуации, далеко не всегда подпадающей под общие правила.
Огромное значение, которое Сартр придавал понятиям «свобода» и «ответственность», позволяет нам отнести их к концептам-смыслам. Для дополнительного прояснения их содержания французским философом была прочитана публичная лекция и написана популяризаторская статья «Экзистенциализм – это гуманизм», в которой нет места усложняющим мысль концептам-складкам. Последних нет, или они минимизированы, и в строго теоретических сартровских работах этического плана. Потому, очевидно, что, подчеркивая особо важную роль всегда непростых человеческих взаимоотношений, следует говорить о них особо важными понятиями – концептами-смыслами, не добавляя к их непростоте витиеватость концептов-складок.
Сравнивая творчество И. Канта и Ж.-П. Сартра, можно утверждать: язык обоих сложен, но у Канта эта сложность вызвана исключительно своеобразной системой концептов-смыслов, а у Сартра – в области гносеологии (но не в этике) – дополнительно обусловлена еще наличием концептов-складок.
Ссылки:
-
1. Саенко А.В. К типологии философских понятий и текстов // Общество: философия, история, культура. Краснодар, 2019. № 12 (68). С. 50–57.
-
2. Льюис Дж. Г. Иммануил Кант. Его жизнь и историческое значение. М., 2012. 66 с.
-
3. Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения. В 8-ми т. Т. 3. М., 1994. 741 с.
-
4. Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, которая может появиться как наука // Кант И. Сочинения. В 8-ми т.
-
5. Там же. С. 15, 31.
-
6. Кант И. Критика чистого разума… С. 292.
-
7. Кант И. Метафизика нравов // Сочинения. В 8-ми т. Т. 6. М., 1994. 613 с.
-
8. Кочеров С.Н. Парадоксы моральной свободы // Этическая мысль. 2015. Т. 15. № 1. С. 5–26.
-
9. Кант И. Критика практического разума… С. 375.
-
10. Кант И. Всеобщая естественная история и теория неба // Кант И. Сочинения. В 8-ми т. Т. 1. М., 1994. 543 с.
-
11. Фатенков А.Н. Языки философии, литературы и науки в аспекте смысла // Философские науки. 2003. № 9. С. 50–69.
-
12. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. М., 2012. 925 с.
-
13. Там же. С.366.
-
14. Там же. С.377.
-
15. Там же. С.402.
-
16. Там же. С. 371,386.
-
17. Там же. С. 412–413.
-
18. Там же. С.120.
-
19. Там же. С.152.
-
20. Фатенков А.Н. Феномен выбора под подозрением // Человек. 2016. № 3. С. 48–62.
-
21. Хайнлайн Р. Чужак в стране чужой. М., 2015. 576 с.
-
22. Фатенков А.Н. Экзистенциальный реализм в смыслах и лицах: Альбер Камю // Философские науки. 2015. № 9. С. 64–78.
-
23. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. М., 2012. 925 с.
-
24. Там же. С.719.
-
25. Там же. С.822.
-
26. Там же. С.820.
-
27. Сумерки богов. М., 1989. 396 с.
-
28. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто… С. 820–821.
-
29. Там же. С.669.
Т. 4. М., 1994. 630 с.
Редактор: Шейхетова Ирина Александровна Переводчик: Кочетова Дарья Андреевна
Список литературы Философский язык И. Канта и Ж.-П. Сартра: концепты-смыслы и концепты-складки
- Саенко А.В. К типологии философских понятий и текстов // Общество: философия, история, культура. Краснодар, 2019. № 12 (68). С. 50-57
- Льюис Дж. Г. Иммануил Кант. Его жизнь и историческое значение. М., 2012. 66 с
- Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения. В 8-ми т. Т. 3. М., 1994. 741 с
- Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, которая может появиться как наука // Кант И. Сочинения. В 8-ми т. Т. 4. М., 1994. 630 с
- Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, которая может появиться как наука // Кант И. Сочинения. В 8-ми т. Т. 4. М., 1994. С. 15, 31.