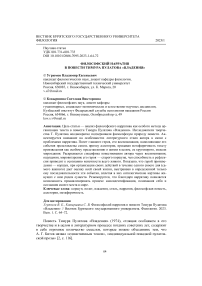Философский нарратив в повести Тимура Пулатова «Владения»
Автор: Угрюмов Владимир Евгеньевич, Ковыршина Светлана Викторовна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2023 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - анализ философского нарратива как особого метода организации текста в повести Тимура Пулатова «Владения». Исследователи творчества Т. Пулатова неоднократно подчеркивали философскую природу повести. Акцентируется внимание на особенностях литературного стиля автора в связи с проблемами нарратива. Полет главного героя, его воспоминания, наполняющие его события представлены сквозь призму аллегории, придавая метафоричность тексту произведения как особому представлению о жизни в целом, ее круговороте, модели мироздания. Раскрывается специфика повествования автора через воспоминания, ощущения, мировоззрение его героя - старого коршуна, чья способность к рефлексии приводит к осознанию конечности всего живого. Показано, что герой произведения - коршун, при организации своих действий в течение одного своего дня (самого важного) дает оценку всей своей жизни, выстраивая в определенной только ему последовательности эти события, вплетая в них онтологические картины живущих с ним рядом существ. Резюмируется, что благодаря нарративу появляется возможность проанализировать процесс самоидентификации, понимания себя и осознания своего места в мире.
Коршун, полет, владения, стиль, нарратив, философская повесть, аллегория, метафоричность
Короткий адрес: https://sciup.org/148326143
IDR: 148326143 | УДК: 801.731+801.733 | DOI: 10.18101/2686-7095-2023-1-64-72
Текст научной статьи Философский нарратив в повести Тимура Пулатова «Владения»
Угрюмов В. Е., Ковыршина С. В. Философский нарратив в повести Тимура Пулатова «Владения» // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2023. Вып. 1. С. 64‒72.
Повесть Тимура Пулатова «Владения» (1974), стоящая особняком в его творчестве и в целом в литературном процессе поздних советских лет, содержит в себе огромное количество смыслов, которые можно объединить тем, что А. Г. Битов назвал «единственным тоном», «индивидуальной повадкой пулатов-ской прозы» [2, с. 116].
Для нас важно, что часть исследователей называет «Владения» философским произведением [4, с. 5], обращает внимание на интеллектуально-философский подтекст, на скрытое притчевое начало в творчестве Т. Пулатова, сопоставляет «Владения» Т. Пулатова с «Чайкой по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха [5, c. 45‒46]. Критик В. И. Гусев определяет поэтому жанр повести «Владения» как «повесть-притчу» [5, с. 45‒46], в которой автор в иносказательной форме через рассказ об одном значимом дне коршуна выражает не только свое видение жизни, но и упорядочивает воспоминания, рефлексирует по поводу прошедших дней и лет. Точное, на наш взгляд, определение творчества Т. Пула-това как «превращение жизни» высказал А. Г. Бочаров, указывая на особенную иносказательность автора, на аллегории и условности в его произведениях, которые определяют творчество как владение миром, «но условность, которая не нарушает жизненные пропорции, не заменяет реальные фигуры эманацией, а как бы опрощает жизненный материал, чтобы подчеркнуть философскую мысль автора» [3, с. 531]. Мы, в свою очередь, отталкиваясь от методологии М. Эпштейна, определяем стиль прозы Т. Пулатова как «транскультурный», или полидис-циплинарный, трансдисциплинарный стиль.
Философская направленность повести коррелирует с определенного типа нарративом. Он создает особый способ повествования о жизни, формирует определенные условия, конструирует свою картину действительности [13, с. 67], позволяя описать себя, окружающих, свои прошлые действия, взаимоотношения, осознать то, кем являются для нас окружающие [13, с. 100]. Собственно этот момент и определил цель данной статьи — выявление особенностей наррации в процессе конструирования проживаемой в данный момент реальности.
Особенность наррации в данном тексте заключается в том, что имеет место опрощение в структурировании воспоминаний, которые переплетаются с реальностью. Жизнь, раз за разом происходящая в круге владений коршуна, вневременная. С легким удивлением уже много лет коршун разглядывает и пытается понять это вечное «превращение жизни». Показать беспечно играющую вечность в одном дне — такова, на наш взгляд, задача автора. О. Х. Алимова отмечает, что «сюжет повести строится на основе движения философской мысли автора, постигающего первоосновы человеческого бытия» [1, с. 21]. Это как бы онтологическая картина: «в дне отлета после полнолуния есть какой-то большой смысл, в него невозможно проникнуть умом. Инстинкт повелевает коршуну лететь именно в этот день, ибо чувствует птица, что всякий раз после полнолуния что-то меняется в пустыне и на ее территории. А на территории, которая в чем-то изменилась, надо все проверить, измерить всю меру нового, понять, на пользу ли это новое, облегчает ли оно существование или же, наоборот, затрудняет его. И хотя за один короткий облет всего не оценишь — тем более изменения происходят столь часто, от полнолуния к полнолунию, — все же коршун пытается, если не оценить, то, во всяком случае, привыкнуть к этим изменениям, чтобы во время охоты не сделать неверного шага в новых условиях и не попасть впросак» [10, с. 286].
Ограниченность времени полета коршуна (предполетное состояние и полет) сжимает художественное время: за короткий отрезок времени коршун не только облетает свои владения, он успевает нарушить границы другого коршуна, всту- пить в схватку, дать оценку этой схватке и своим силам, вспомнить и представить в ярких красках события и наблюдения прошедшего. Это сжатие позволяет актуализировать наиболее значимые моменты в жизни героя, которые работают на самоидентификацию, возможность закрепления себя и своего статуса в окружающем мире.
Сжатие как художественный прием дает о себе знать и в таком феномене, как память-сжатие, отличающаяся от памяти-воспоминания. «Здесь и сейчас» переплетаются с прошлым: «поднимаясь все выше, прыгнул, наконец, к расселине, возле которой мелькнуло у него смутное воспоминание. В расселине в своем гнезде сидела самка, и едва она увидела нашего коршуна, как выглянула и открыла клюв в знак покорности <…> коршун постоял и в знак памяти провел окрашенным клювом по ее шее и запрыгал дальше» [10, с. 288]. В приведенном отрывке как раз четко показана память-сжатие: воспоминание сохраняется само по себе, а не где-то. Вспоминая, мы имеем одновременность прошлого и настоящего. Прошлое же, как отрезок жизни, является полным интегральным прошлым. Согласно А. Бергсону, мы перемещаемся в прошлое вообще, и таким образом происходит онтологический скачок. Мы действительно перескакиваем в бытие, в бытие-в-себе, в бытие-в-себе-прошлого. Господствующие воспоминания представляют собой яркие точки памяти. Но не всегда воспоминания яркие и точные, как это мы видим у коршуна: воспоминания о кровавых ежегодных свадьбах. Смутные воспоминания всегда присутствуют в нашей памяти и порождают множество проблем. В основе механизма смутных воспоминаний лежат ассоциации и чувство смежности прошлых ощущений с теми, что мы оживляем. А. Бергсон считает, что мы не восходим от активного настоящего к прошлому и не соединяем заново прошлое с настоящим; но помещаемся сразу в само прошлое. Прошлое сосуществует в себе как настоящее [6, с. 86].
Л. В. Стародубцева рассматривает воспоминания как «сознаньевый прыжок». «Память иллюзорно уводит сознание от точки “здесь и теперь” в несуществующее прошлое “там и тогда”, в забытие отсутствия и возвращается обратно» [12, с. 41]. Рефлексия помогает коршуну понять и принять себя самодостаточным, но уже уставшим от жизни, опытным, одиноким, понимающим, что надо дать дорогу молодым. Чувство одиночества возникает у того, кто видит жизнь со стороны (высота полета) и совершает реальный и в то же время сакральный символический полет-обряд, чтобы осмотреть владения и испить воды на дальнем озере. Несомненно, глоток воды в пустыне, населенной ветрами, запахами и живыми существами, — есть творческий акт создания произведения (владения), к которому ведет автора (коршуна) определенный ход художественных ассоциаций (живые существа, предметы, ветры, запахи, память о прошлом), все то, что составляет его индивидуальный стиль (полет). Мы не можем говорить о нарративе как о способе, с помощью которого указанный нами автор любуется собой, но можем говорить о нарративности как рефлексивном моменте («здесь и теперь»). Чем шире простирается видение коршуна пустыни, тем он более одинок, но это не трагическое одиночество, а творческое состояние, движением которого и результатом является создание художественного произведения.
Важнейшей особенностью стиля писателя, его особого видения, которое порождает определенное движение мысли, «внутреннего единства», которое, по
П. Н. Сакулину, зависит от «единства художественной цели, телеологии» [14, с. 131], является выбор особого нарратива, когда внеиндивидуальное становится «индивидуально-неповторимым, лично-особенным» [8, с. 10]. В философском нарративе Т. Пулатова важна роль метафоры. Важно понять, как она используется, как «употребляет метафору» автор [7, с. 226].
Метафора позволяет преодолевать границы между двумя основными типами мышления — мифопоэтическим и дискурсивно-логическим, связывает воображение с интеллектом. П. Рикер главной способностью метафоры считает передачу непереводимой информации [11, с. 416]. Ортега-и-Гассет вообще считает особенностью философской мысли то, что она «как никакая другая постоянно и почти незаметно переходит от прямого смысла к косвенному» [9, с. 69]. Метафоричность, «акты создания изобразительных средств художником» [1, с. 20] создают мифопоэтическое видение в повести «Владение». Старый коршун, описание которого и движение его мысли странны и часто далеки от природного коршуна, совершает «комплекс действий — актов создания изобразительных средств», словно ежеминутно творя свои владения.
Каждый раз, творя свои владения, он утверждает свою жизнь. Важные вопросы бытия, которыми занят коршун, традиционно даны парами: жизнь и смерть, молодость и немощь, день и ночь, полет и возвращение, свобода и плен. Тем самым автор создает экзистенциальную гармонию текста. В повести мы наблюдаем триединство мира: небо, земля и подземный мир. Роль мирового дерева выполняет скала с гнездом коршуна, а также цель полета — живое «деревце ива» на берегу высохшего озера. Скала — телесный символ домашней крепости, стабильности; ива — символ трепетной души, мечты, чего-то дальнего, символ утоления желаний. Скала, или дерево жизни, для коршуна всегда есть начало выбора и конец пути, точка отправления и точка возврата, место начала процесса творчества и место оценки его результата, все на скале жизнь и все смерть. Она — страх и слава коршуна, память и обещание райской жизни. Пока коршун один и желает быть один — это нечто индивидуальное, переломное для него, исключительное. Так понимают на Востоке число один. В суфийской поэзии образ, не имеющий пары, а таким является коршун в момент облета, выходит из мира мнимых видимостей, из мира иллюзий, и ему открывается божественная истина. Считается, что один всегда чувствует свою душу, двое же как противоположности создают пару и рождают новую душу. Поэтому коршун, совершив свой одинокий творческий облет владений, воссоединяется с самкой, которая ждет его на скале.
Особую роль в философской символике повести играет образ ветра. Он проникает струйками в нору суслика, он носит в «нижних высотах над пустыней» потоки воздуха «со струей легкого песка и листьями одуванчика», он танцует, он «плотный как сама мгла». Столбы вертикальных потоков ветра использует коршун для того, чтобы взлететь. Ветер может быть очень ласковым, и тогда он приносит различные запахи, чаще всего запах полыни, запах жизни. Ветер может становиться бурей. Ветер создает форму скал: «ветер, танцующий волчок, принесет с собой песок, посыплет к подножию скалы, затем покружится вокруг столба, оставляя на скале влажные следы, поднимется потом на верхушку, побегает по кругу шапки — шапка тоже вспотеет ненадолго, — полетит се- рым вихрем к небу, разматываясь и уменьшаясь постепенно, и где-то уже на черте видимости подберет он тонкий свой хвост и растворится, превратившись в беспокойный и подвижный слой воздуха, из которого потом снова рождаются ветры и воздушные течения» [10, с. 174]. Пулатов подробно описывает начало полета, словно оно есть вдохновение, обещание владения миром, коршун отдается во власть «столбового ветра, удаляясь все выше от земли». Но самый важный ветер в произведении, который «наполняет все во всем» и соединяет все три мира (подземный, земной и небесный), показан автором как легкое дуновение. Это дает нам право видеть несомненную аллюзию на библейский текст: «выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, и там Господь» (Библия, 3 Цар. 19:11).
Отметим, что повествование движется в повести Пулатова через семь сфер — это различные состояния коршуна. Священность числа семь символизирует на Востоке главные ступени жизни человека: рождение, мужание, овладение мастерством, создание семьи, отцовство, война, успокоение (старость, болезнь и смерть). Все эти сферы или ступени так или иначе присутствуют в повести Пу-латова и составляют осознание коршуном своего важного дня облета владений как осознания всей жизни. Этот один день символизирует семь дней творения владений.
Рассмотрим последовательно сферы движения коршуна. Начинается повесть с интуитивного предчувствия творчества, пути над пустыней, творческой полноценности жизни: «Этот коршун после ночи полнолуния всегда облетал территорию <…> вздрагивая в страхе от шорохов и блеска упавшей звезды. <…> Зная, что ему принадлежит территория, коршун считал себя полноценной птицей, а отними у него этот путь над пустыней, он, униженный и забытый, просунул бы в тоске клюв в песок и умер» [10, с. 262]. Пустыню мы понимаем как чистое видимое пространство, чистый лист, на котором должна сотвориться радость жизни, чтобы быть увиденной и именованной. «Вначале земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Бытие, 1:2). Творец живет в своем творении, и, если отнять у него возможность творить, он умрет, исчезнет. Здесь впервые в повести появляется образ носящегося ветра, словно некоей мыслительной сущности (автора), способной сначала отяжелить, но эта тяжесть и есть сила полета, ветер пробуждает в коршуне понимание того, что он птица, треплет (создает) коршуну крылья и наполняет его воздухом, словно вдыхает в него силу жизни: «Поток воздуха, плывущий в нижних высотах над пустыней, желтый, со струей легкого песка и листьями одуванчика, плотный, как сама мгла, безо всякого усилия и напряжения трепал птице крылья, и коршун, наглотавшись воздуха, с надутыми боками, отяжелевший, опускался на песок» [10, с. 261]. Этот первый ветер состоит из легкого песка и листьев одуванчика, из живого и мертвого.
Первую сферу можно озаглавить так — «Подземная и земная жизнь: запахи». Мы знакомимся с важным персонажем повести — сусликом. Грызун олицетворяет земное и подземное существование, связь с миром людей, сытость, сон и уютную безопасную нору, в которую могут проникнуть лишь струйки воздуха да запах полыни, как запах спокойствия, запах деревни, людской запах: «хвост света забирал все запахи на шерсти; запахи влажного песка в норе, полыни, которой прикрыт вход, а полынь пахнет солью, от нее щиплет в носу, а также людским жильем, ибо полынь — это связной между людьми и зверьем» [10, с. 262]. Полынь у Пулатова — или живое существо без лица, или запах и движения рисуют ее лицо. «Полынь зашевелится, пытаясь вылезти из-под спящего суслика <…>, чтобы катиться потом в одиночестве по пустыне», «Полынь свернется в комок, как сворачивается она обычно перед мордой какой-нибудь овцы» [10, с. 263].
Вторую сферу можно определить как «Ветер и свет — роса. Поэзия земной жизни». Светает, коршун готовится к полету. Пустое, пустынное состояние ночи полнолуния, ночи перед дневным полетом, рождающим жизнь и территорию коршуна, Пулатов описывает как чистый, безжизненный лист бумаги: «Ночью в полнолуние все залито неестественным холодным светом, от света этого не шевелится трава, и птенцы не растут в яйцах, и много старых птиц и зверья умирает в эту ночь — нет роста и приобретений, зато много потерь в пустыне» [10, с. 268]. Но вот наступает утро, ветер и свет рождают «прилет росы». Роса символизирует начало жизни в пустыне. Рождение росы есть начало движения поэтических ассоциаций в повести Пулатова, потому что она сама поэзия. «Роса, чистая и прозрачная, пахнущая высотами мироздания, где летает звездная пыль, живет только в полете, от матового света до песка — вот отрезок короткой, но поистине поэтической жизни!» [10, с. 268]. Свет и ветерок (легкое дуновение) — это в повести нечто единое, и свет так же, как ветерок, показан с намеком на библейскую метафору, говорящую о Боге как о полноте, наполняющей все во всем, успокаивающей. «Свет, как бы проникающий во все, просачивающийся сквозь барханы и заросли, скалы и посему не оставляющий теней и своих отпечатков, спокойный, умиротворяющий» [10, с. 269]. Земная жизнь, жизнь жуков, увиденная коршуном на рассвете, выглядит жалкой и плутовской. Он с удивлением наблюдает ее и готовится подняться над ней для своего полета. «В те короткие мгновения, когда коршун открывал глаза и наблюдал за скарабеями, он видел среди них обман и воровство <…> Зато надо всем, что здесь суетится, обманывает друг друга, — скарабеями, сизифами, полевыми мышами, снующими с рассвета от куста к кусту, над всей мелкой живностью — висит смертоносный клюв коршуна. Они как его подданные, ибо живут на его территории» [10, с. 271].
Сфера третья — подготовка к полету, освобождение. Коршун выпрыгивает из гнезда на камень, что висит над ним, выходит в свободное пространство. Солнечное тепло ласкает и выпрямляет крылья. «Коршун почувствовал, как голова и все тело стали легкими, гибкими, и он несколько раз, прыгнул на месте, ощущая в себе готовность достойно прожить грядущий день» [10, с. 272]. Коршун совершает обряд восхождения на вершину скалы, словно прощается и вспоминает прожитую жизнь, готовится к владению новой.
Поэтому четвертая сфера, в нашем понимании, сфера памяти, где прошлое коршуна показано как кровавая птичья свадьба, смертельный бой за самку. Это мысленное путешествие в прошлое соответствует «церемонии обхода скалы». Только после воспоминаний коршун готов к полету, или, как мы понимаем, к творчеству. Теперь коршун ждет тот «столбовой ветер», который поднимет его. «Коршун смотрел на пески и ждал, желая увидеть, как поднимается вверх столб воздуха, из которого образуется ветер, что дует прямо в небо… и тут родился столбовой ветер» [10, с. 280].
Сфера пятая: «Начало полета, объятия ветра». «Коршун <…> раскрыл крылья на всю длину взмаха и так неподвижно <…> удалялся все выше от земли». Думаем, что в этой сфере наиболее точно описано творческое состояние как движение авторских ассоциаций, которые переданы через описание разных состояний ветра, ощущаемых коршуном в полете. Мы встречаем столбы ветра, маленький ветер, хвост ветра, жаркое и прохладное течение, и все они знакомы коршуну, понимаемы им. Под собой, на земле он видит труп зайца и жуков-мусорщиков, над собой в небе он видит беркута — хозяина другой территории, других сфер. «Все, на что он смотрел с высоты, было унылым и однообразным — почти ровная долина» [10, с. 287]. Именно в этот момент наступает время зарождения нового видения коршуном своей старой территории.
Шестая сфера «Новое чувство и новые ветры». В этот момент появляются новые, незнакомые ветры, и тень птицы — единственный свидетель полета. Момент творчества традиционно связан у Пулатова с ожиданием бури и покоя. «Буря может длиться совсем недолго, но после нее в любое время дня и ночи наступает такая тишина в пустыне, благостная, усталая, что даже сверчок боится потревожить уснувшие звуки <…>, все разом проиграл буран, перемешал все ноты. И после отлета бури земля пребывает в глубокой тишине, ловя новые звуки для новой гармонии» [10, с. 290]. После бури коршун достигает цели своего полета, или творческого акта, он достигает соленого озера и совершает глотки желанной воды. «Коршун выпил всю воду и, почувствовав слабость и томление, решил сразу же улетать обратно» [10, с. 293].
Седьмая сфера — путь обратно или примирение с жизнью — начинается странной фразой: «Время укоротилось, перевалило за полдень, но зноя не прибавилось» [10, с. 293]. Ее можно интерпретировать как вторую половину жизни человека, когда время становится короче, а жар жизни угасает. Коршуна уже мало интересует кипящее пространство, ставшее для него опять пустыней, оно не радует уставшую птицу. Он совершил полет, создал его, свершил задуманное и теперь стремится вернуться в гнездо отдохновения. Здесь он более всего похож на человека, жизнь которого близится к закату. «Сейчас коршун почти не замечал земли, взгляд его был напряженный, усталый и скользил по пустыне равнодушный, как собственная тень» [10, с. 293]. В этой части повести полет ассоциируется не только с творческим порывом, но и с отмеренным жизненным сроком вообще. Тогда в образе полета коршуна мы приходим к пониманию подлинной жизни как творческого процесса. Единственное странное существо, которое возбудило любопытство коршуна, — это старая летучая мышь, «с видом странным и трогательным», летевшая днем и у которой «остался лишь инстинкт ухода, бегства из гнезда, от сородичей» [8, с. 294], чтобы умереть. Коршун с удивлением изучает нетопыря и неосознанно ассоциирует его образ со своей жизнью. Движение мыши кажется ему сначала его собственной тенью.
После встречи с умирающей мышью и удачной охоты на нее коршун чувствует себя слабым и немощным. Он не слышит даже «шороха собственных крыльев». Напавший на него другой коршун олицетворяет новый мир, приходящий на смену миру стареющего коршуна. Коршун, «тяжело дыша теплой вечерней росой» (помним, что роса — это поэзия), опускается на землю, где его поджидает ночь. Он уже не выглядит так бодро, как перед полетом: «Коршуну стало жаль себя, одинокого среди ночи, где за каждым кустом таится опасность» [10, с. 300]. Он возвращается на свою скалу, где его ожидает самка, «еще совсем не старая, заботливая и добрая» [10, с. 301], он возвращается в гнездо для покоя и отдохновения.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что перед нами за один полет (один день) раскрывается нарратив, процесс рассказывания о начале, дальнейшем развертывании и о сопутствующих в ходе действия взаимоотношениях. Действие или поступок необходимы для того, чтобы мы увидели проявление сущности личности, в данном случае — коршуна. Своеобразие стиля Т. Пулатова заключается именно в том, что благодаря нарративу происходит индивидуализация Я и идентификация действий героя: его самодостаточности и самоценности, т. е. нарратив выступает законченным высказыванием (или текстом), содержащим уже определенные нравственные ориентиры, придающие особенность созданному образу. Таким образом, в повести «Владения» реализуется новая форма повествования — воспоминания в процессе совершаемых действий.
Список литературы Философский нарратив в повести Тимура Пулатова «Владения»
- Алимова О. Х. Художественное воплощение философской проблематики в творчестве Тимура Пулатова: автореферат диссертации на соискание ученой степени канди-дата филологических наук. Москва, 1993. 19 с. Текст: непосредственный.
- Битов А. Г. Статьи из романа. URL: https://docs.yandex.ru/bitov_statji_iz_romana_ 1986__ocr.pdf/bitov_andrey_georgievich/kniga_puteshestviy_po_imperii-read.html (дата обращения: 20.11.2022). Текст: электронный.
- Бочaров А. Преврaщение жизни. Послесловие // Пулaтов Т. И. Влaдения: ромaн, повести, рaсскaзы. Кишинев: Лит артистикэ, 1986. 541 с. Текст: непосредственный.
- Буранова Ж. А. Особенности мифологизма в повести Тимура Пулатова «Владения». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-mifologizma-v-povesti-timura-pulatova-vladeniya (дата обращения: 21.12.2022). Текст: электронный.
- Гусев В. И. Зовы стихии и голос века // Литературное обозрение. 1978. № 1. С. 45‒46. Текст: непосредственный.
- Делез Ж. М. Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. Спиноза. Москва: Per Se, 2000. 349 с. Текст: непосредственный.
- Лосев А. Ф. Философия имени. Москва, 1927. 269 с. Текст: непосредственный.
- Минералов Ю. И. Теория художественной словесности (поэтика и индивидуальность). Москва: Владос, 1999. 375 с. Текст: непосредственный.
- Ортега-и-Гассет Х. Две великие метафоры // Тайна метафоры. Москва: Прогресс, 1990. 511 с. Текст: непосредственный.
- Пулатов Т. Жизнеописание строптивого бухарца: роман, повести, рассказы. Москва: Молодая гвардия, 1980. 461 с. Текст: непосредственный.
- Рикер П. Метафорический процесс как познание, воображение и ощущение // Теория метафоры. Москва: Прогресс, 1990. 516 с. Текст: непосредственный.
- Стародубцева Л. В. Философский нарциссизм и припоминание // Вопросы философии. 2001. № 11. С. 40–50. Текст: непосредственный.
- Трубина Е. Г. Рассказанное Я: отпечатки голоса. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. 272 с. Текст: непосредственный.
- Угрюмов В. Е. Стиль и образы повести Т. И. Пулатова «Владения» // Язык — Культура — Образование. Новосибирск, 2021. С. 126–137. Текст: непосредственный.