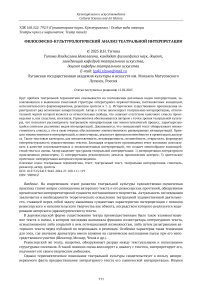Философско-культурологический анализ театральной интерпретации
Автор: Титова В.Н., Дударева М.А.
Рубрика: Культурология и искусствоведение
Статья в выпуске: 1 (100) т.27, 2025 года.
Бесплатный доступ
Круг проблем театральной герменевтики основывается на соотношении различных видов интерпретации, заключающихся в выявлении смысловой структуры литературного первоисточника, постановочных концепций, исполнительского формовыражения, рецепции зрителя и т. д. Историческое существование произведения характеризует ряд возможных конкретизаций. Автор в статье анализирует театральную интерпретацию, отличительной чертой которой является ее относительная свобода, что означает отсутствие конечного смысла произведения и, как следствие, спектакля. Герменевтика обосновывается автором с точки зрения театральной культуры, что позволяет рассматривать театральную интерпретацию как многоступенчатый процесс, характеризующийся синтезом различных видов интерпретаций. Доказывается, что театральный текст обнаруживает множественность смысла, а это в свою очередь обусловливает множественность равноправных интерпретаций. Принцип множественности интерпретаций, в свою очередь, реализует принцип нелинейности в организации дискурса. Такие текстовые категории, как множественность, незавершенность, нелинейность, открытость, формируют гипертекстуальность художественных текстов. Благодаря открытости произведения текст возможно использовать в качестве последовательных и неокончательных интерпретаций, что создает многообразие взаимодействий текста и сцены. Автор выделяет три уровня театральной интерпретации: 1) интерпретация литературного произведения режиссером; 2) интерпретация режиссерского замысла произведения актером; 3) зрительское прочтение-интерпретация авторского произведения.
Театральная герменевтика, текст, театральный текст, театральная интерпретация, спектакль, режиссер, актер, зритель
Короткий адрес: https://sciup.org/148331012
IDR: 148331012 | УДК: 168.522: | DOI: 10.37313/2413-9645-2024-27-100-111-119
Текст научной статьи Философско-культурологический анализ театральной интерпретации
EDN: YRHSCZ
Введение. На современном этапе развития театральной культуры художественно-сценическая практика ставит вопрос соотношения авторского текста и его режиссерских прочтений, обнаруживая превосходство интерпретаторской сущности постановочного творчества. Актуальность исследования заключается в необходимости теоретического осмысления театральной художественной деятельности, ставящей перед собой задачу выявления сущностных характеристик интерпретации с позиции режиссерского и исполнительского творчества как объекта, посредством которого реализуется кодирование авторского (драматургического) текста.
В дорежиссерской форме существования театра преимущественным было такое взаимоотношение текста и сцены, в котором последняя выполняла функцию иллюстратора литературного текста, осмысливаемого либо сокрытой в нем потенциальной возможностью, либо путем разыгрывания авторского текста перед публикой по персонажам и репликам. Особенно характерна такая тенденция для эпох, где значение драматурга имело влияние на сценическое воплощение пьесы при его непосредственном участии (Шекспир, Мольер, Чехов и др.).
Режиссерский же театр, напротив, обнаруживает разрыв между текстуальными и визуальными структурами спектакля. В такой позиции сцена апеллирует к диалогу с текстом, интерпретирует его, подчиняет его своим творческим амбициям.
Однако герменевтическое понимание театральной культуры свидетельствует в пользу неопровержимого факта предшествования литературного текста его сценической интерпретации. Иными словами, можно говорить о тексте как таковом (универсальное, абстрактное понятие) и тексте в его сценическом воплощении (частное и вполне конкретное проявление) [Бентли Э.].
Методы исследования. В исследовании используется методология комплексного анализа, позволяющая рассматривать театральную культуру в сопряжении с философско-культурологической, эстетической и театроведческой мыслью, однако, ключевыми методами являются философско -культурологический и герменевтический методы, являющимися основными при анализе интерпретации театрального текста как многокомпонентной знаковой структуры.
История вопроса. Герменевтический анализ природы интерпретации обусловливает изучение текста театрального спектакля как многокомпонентной знаковой структуры. Постижение смысла такого рода текста возможно только благодаря творческому восприятию зрителя. В такой взаимосвязи спектакль рассматривается как результат актуализации (овеществления, оживления средствами собственной фантазии) смысла (литературного) текста. Как представляется, первооснова спектакля – авторский текст - с позиции герменевтики рассматривается как текст, содержащий потенциальную множественность смыслов и способный воплотиться в поливариативности режиссерского прочтения (спектакля).
Актуальной, с нашей точки зрения, для понимания проблемы театральной интерпретации является герменевтическая концепция русского мыслителя М. М. Бахтина. Для многочисленных исследований ученого в области философии языка характерным является рассмотрение языка как миропонимания. Человеческий поступок, по мнению мыслителя, есть «потенциальный текст», выступающий в качестве специфического способа словесного оформления, осмысления мира. Выявляя базисную структуру человеческого бытия, текст является средством самовыражения человека.
Теория познания, предложенная ученым, выделяет в качестве институционального условия понимания «хронотоп»: понимание представляется не чем иным, как истолкованием, соотнесением с другими текстами и переосмыслением в новом контексте, интерпретацией себя и мира посредством отождествления с Другим, а также с культурным контекстом. Следовательно, понимание есть точка пересечения «трех разных контекстов с соответствующими им хронотопами: контекста описываемого события, контекста автора и контекста исследователя» [Чистилина И.А., с. 20].
Результаты исследования . Выявление сущностных характеристик художественной интерпретации в театральной культуре с многообразием его внутривидовых жанров актуализируется в процессе изучения концептуальных положений о диалогических отношениях текста и контекста. Диалогическая концепция М.М. Бахтина заключается в том, что диалог - это процесс экзистенциальный, смысловой, незавершаемый: «...этапы диалогического движения понимания: исходная точка - данный текст, движение назад - прошлые контексты, движение вперед - предвосхищение (и начало) будущего контекста» [Бахтин М. М., с. 364]. Так, между текстом и его интерпретатором рождается разговор - диалог. Диалогом, в свою очередь, является слово, данное в качестве ответа на слово, через которое и познается Другой. Слово в тексте понимается ученым как наслоение диалогических контекстов. В более широком смысле диалогическая концепция М. М. Бахтина может рассматриваться как диалог культур и традиций. Справедливым является положение, согласно которому понимание есть действие, диалог различных культур, сохраняющих за собой свою целостность и самобытность. Именно диалог обеспечивает встречное движение смысловых проекций понимающих, пересечение которых и означает событие понимания.
Осмысление проблемы интерпретации в философско-культурологическом дискурсе позволяет рассматривать театральную интерпретацию как сложный процесс, имеющий несколько уровней:
-
1) режиссерская интерпретация - интерпретация литературного произведения режиссером на основе собственного мировоззрения, понимания, художественных идей;
-
2) актерская интерпретация режиссерского замысла произведения;
-
3) зрительское прочтение-интерпретация авторского произведения.
По утверждению П. Пави, основным аспектом театральной деятельности является интерпретация текста режиссером, актером и публикой, где «представление - серия интерпретаций на всех уровнях» [Пави П., с. 51]. Характерным признаком такой иерархии театральной интерпретации является, на наш взгляд, герменевтическая функция режиссера в процессе коммуникации «автор - зри- тель/интерпретатор», поскольку задачей режиссера является найти точки пересечения аксиологической и гносеологической системы координат авторского и зрительского мироощущения и сознания, а также добиться понимания зрителя авторского замысла. С данной точки зрения режиссер как организатор постановочного процесса по отношению к литературному тексту занимает первичную позицию читателя, вступающего в активный диалог с произведением, и вторичную позицию зрителя своих первоначальных образов, возникающих в его режиссерской фантазии в процессе восприятия произведения. Следовательно, деятельность режиссера-интерпретатора зависит от первотекста, который он впоследствии превращает в герменевтический предтекст.
Изучение проблемы интерпретации в театральной практике неизбежно обращается к вопросу традиций и новаторства (особенно актуальным становится данный вопрос в отношении интерпретации классики) в силу осмысления авторской концепции литературного первоисточника, получающего в результате интерпретаторское «перерождение» как совершенно новый текст - текст театрального представления. Следовательно, возникновение нового «текста», рождающегося в воображении зрителя, является результатом «сотворчества» автора литературного текста и реципиента. П. Пави утверждает, что одно и то же произведение получает всевозможные прочтения благодаря интерпретации. Допуская разнообразные конкретизации, интерпретация запускает механизм оценивания продуктивной работы творческого восприятия зрителя, его герменевтического отношения к спектаклю [Пави П., с. 51].
При интерпретации текста читателем или исполнителем внетекстовый контекст, по утверждению М. М. Бахтина, может быть реализован лишь частично, однако «в своих наиболее существенных и глубинных пластах остается вне данного текста как диалогизующий фон его восприятия. <…> Текст – печатный, написанный или устный = записанный - не равняется всему произведению в его целом (или «эстетическому объекту»). В произведение входит и необходимый внетекстовый контекст его. Произведение как бы окутано музыкой интонационно-ценностного контекста, в котором оно понимается и оценивается (конечно, контекст этот меняется по эпохам восприятия, что создает новое звучание произведения)» [Бахтин М. М., с. 369]. Иными словами, читатель, «соединяя» различные тексты, интерпретируя в своем сознании различные точки зрения, открывает скрытые смыслы, чем творит свой смысл. Два высказывания, отдаленные своими смыслами и хронотопами, при смысловом сопоставлении обнаруживают диалогические отношения, поскольку текст, по убеждению мыслителя, существует только в сопряжении с другим текстом (контекстом). В этом контексте кроется диалогический контекст между текстами.
Диалогическая концепция М.М. Бахтина получила впоследствии продолжение в трудах Ю.М. Лотмана и других ученых.
Концепция интертекстуальности как проблема взаимодействия текстов осмысливается Ю.М. Лотманом с позиции языковой системы, где текст представляется специфической системой знаков. Текст формирует систему отношений, в которой функцию «кодировщика» информации, заложенной в тексте, выполняет автор (писатель), а читатель, в свою очередь, должен ее «декодировать». Текст, согласно представлению Ю. М. Лотмана, не есть лишь литературное произведение, он может воплощаться в формах различных видов искусств. В основу понятия текста ученый вкладывает такие определения, как: выраженность (материальное воплощение текста, реализуемое посредством знаковой системы); отграниченность (текст имеет свойство противостоять знакам, не входящим в его состав, и структурам с невыделенным признаком границы, например, в театральном искусстве структура текста регламентируется хронотопом сценического действия); структурность (текст представляет собой не столько последовательность знаков в рамках своих границ, сколько внутренне художественно организованное структурное целое) [Лотман Ю.М.].
Наряду с такими характеристиками текста, как открытость, множественность, интертекстуальность, современный исследователь Т.Н. Суминова отмечает, что «текст произведения художественной культуры приобретает еще и такие свойства, как сверхсемиотичность (если «скроен» из зна-ков/языков различных видов искусства) и отсюда полиинформативность, поскольку каждая грань этого феномена культуры создает новую «грань», отблеск информации, каждый раз и каждым реципиентом «прочитываемый» по-новому и по-своему, в том числе и вследствие социокультурного контекста» [Суминова Т.Н., с. 47].
И. В. Цунский в статье «Театральная герменевтика и анализ театрального текста» [Цунский И.В.], анализируя структуру художественного образа спектакля как макрознака театрального текста, минимальной единицей которого, по мнению автора, является образ события, приводит в качестве примера схему, где литературный текст представлен рядом фактов воображаемой реальности, отобранных и художественно осмысленных драматургом (внешние и внутренние обстоятельства пьесы).
Театральный же текст представляется И. В. Цунскому событийным рядом, который воплощен на сцене актерами как ряд «образов событий», связанный цепью «образов действий». Понимание событийного ряда с позиции театрального текста обусловливает все компоненты спектакля, формируя единую образную систему.
Однако в качестве промежуточного звена между литературным и театральным текстом исследователь выделяет режиссерский замысел, включающий событийный ряд «второй воображаемой реальности». Воображаемая реальность - будущий спектакль, существующий только в воображении режиссера, но решенный в единой образной системе и подчиненный образному пониманию идеи. Мы предполагаем, что смысл текста превышает авторское понимание. Смысл, порожденный текстом, ориентирован своим предназначением на реципиента, а не соотнесен своим происхождением с конкретным автором. На этом этапе интерпретация не просто обнаруживает смыслы вещей, а в определенной степени производит новые смыслы и содержание, представляет собой «произведение» самого интерпретатора, а не простое воспроизведение замысла автора-драматурга.
Исследователь в диссертации «Философско-культурологический аспект режиссерского анализа художественного текста» отмечает значимость «допостановочного» этапа режиссерского анализа текста, поскольку текст не всегда имеет постановочный потенциал. Так, для «концентрированности смыслов» [Тазетдинова Р. Р., с. 8] авторского текста в спектакле, по мнению Р.Р. Тазетдиновой, необходима определенная режиссерская стратегия, выбор которой подразумевает решение постановочных задач - сохранение целостности текста, восполнение дефицита текста и др.
Следовательно, рожденные смыслы как семиотические структурные фигуры формируют композицию и организацию спектакля, описывая сцену в качестве означающей системы оппозиций, где спектакль конструируется из составляющих элементов, а его понимание - из правил функционирования данных элементов.
Понимание здесь выступает не только репродуктивным, но и конструктивным творческим процессом. Следовательно, режиссерская экспликация претендует на рассмотрение ее в качестве основополагающей постановочной интерпретации, являющейся синтезированным результатом творческих усилий режиссера, актеров, сценографа, балетмейстера, композитора и других участников творческого процесса. Подобный вид интерпретации ориентирован на последующее восприятие реципиентами целостного образа спектакля. Таким образом, для режиссерского театра в существующей триаде «автор - режиссер - зритель» видение режиссера преобладает над точкой зрения драматурга.
По нашему мнению, сценическое произведение как интертекст является такой формой литературного произведения, которая наравне с жанром открывает зрителю широкое поле возможностей интерпретации произведения в контексте зрительского «горизонта ожидания». Следовательно, интертекстуальность как основополагающая черта интертекста отвечает концепции «диалога как борьбы писателя с существующими литературными формами» (М. М. Бахтин). Данная концепция представляет процесс творчества как «наслоение», «пересечение» существующих текстов и текста, рождающегося здесь и сейчас в хронотопе театрального спектакля. Интертекстуальность несет в себе свободу выбора в толковании режиссером множества смыслов, заложенных в тексте произведения; возможность интерпретации текста привлекает режиссера. Уже на этапе анализа текста пьесы, ее режиссерского разбора, толкования труппе включаются механизмы субъективной конкретизации текста, его индивидуального прочтения, вскрываются новые горизонты смысла. В связи с этим для понимания текста художественного произведения сквозь призму интертекстуальности важна не столько субъективность воплощенных режиссером замыслов или интерпретация реципиентом заложенного смысла, сколько сам процесс производства смысла из иных текстов по отношению к другим текстам (прошлым и современным).
Говоря об интертекстуальных связях между двумя текстами в театральной культуре, П. Пави отмечает их диалектическое взаимодействие, создающее тематическое сближение, расширяющее горизонты прочтения. Драматургический и зрелищный текст созидается внутри драматических композиций посредством сценических приемов. Режиссерская практика обращается к включению в архитектонику сценического произведения посторонних текстов, связанных с пьесой лишь тематически (иногда с целью разъяснения), в результате чего возникает синтез текстов, ассоциативно привязанных к главному произведению. В таком случае происходит диалог цитируемого произведения и текста оригинала: «…поиск интертекста трансформирует текст оригинала как в плане означаемых, так и в плане означающих; он взрывает линейную фабулу и театральную иллюзию, сопоставляет два, нередко противоположных, ритма и типа письма, остраняет текст оригинала, настаивая на его материальности» [Пави П., с. 125].
На наш взгляд, герменевтический аспект театрально-художественной деятельности обусловлен конкретизацией литературного произведения, обретающего значимость в контексте предшествующих и последующих режиссерских интерпретаций. Иначе говоря, «артефактом» театральной культуры являются только те тексты, которые благодаря режиссерской практике встраиваются в ряд уже существующих интерпретаций.
Следовательно, актуализация интертекстуальных связей влечет за собой кардинальные режиссерские трансформации авторского текста/литературной основы. В связи с этим современный театр, с нашей точки зрения, является сугубо режиссерским, поскольку в основе его заложена идея интерпретации как источника смыслопорождающих возможностей. В подтверждение можно привести точку зрения современного исследователя О.О. Рогинской: «В основе прочтения авторского текста лежит, как правило, режиссерская метафора, которая и определяет решение сценического пространства, музыкальное сопровождение и собственно тип актерского взаимодействия. Этот тип театрального высказывания ориентирован на литературоцентричного зрителя, для которого главными являются фундированные отношения режиссера с текстом. Принципиальной оказывается и установка на выражение вневременных (антиисторичных), универсальных смыслов и на выработку катарсических эмоций, освобождающих зрителя от «шелухи» повседневности» [Рогинская О.О., с. 284].
Герменевтическая теория как наука толкования текстов позволяет нам анализировать современную художественную коммуникацию и особенности ее интерпретации. Межсубъектные отношения театральной коммуникации, выстроенные по обозначенному нами принципу «автор – зри-тель/интерпретатор», расцениваются нами как равноправные, поскольку каждый из субъектов равнозначен. Однако, как было отмечено, связующим звеном в системе конструирования данного рода коммуникации выступает режиссер, осознанно или бессознательно, но непременно интерпретирующий авторский текст. Текст спектакля конструируется режиссером через овеществление идеи, заложенной автором. На этом этапе интерпретация показывает, как текст, поставленный на сцене, выходит за структурные рамки, «как выполняет свой долг по отношению к миру и меняет о нем наше представление» [Пави П., с. 317]. Режиссерская интерпретация включает в себя и сценографическую интерпретацию, поскольку последняя всегда подчинена режиссерской трактовке спектакля. Театральный художник как интерпретатор стиля (Г. Г. Шпет) переносит авторский текст в пространственно-временную конструкцию сценического произведения.
При этом одним из механизмов конкретизации текста в театральной культуре выступает актер, который своим психофизическим аппаратом и игрой конкретизирует персонаж авторского текста, т. е. воплощает образ в сценическом пространстве. Так, правомерно говорить об актерской интерпретации, имеющей место в искусстве театра, однако в практике современной театральной культуры интерпретаторская деятельность актера является вторичной по отношению к режиссерской концепции спектакля. Характерно, что целью актерской интерпретации становится оживление образа, превращаемого на сцене в персонаж. Посредством интерпретации актером персонаж индивидуализируется, ему придается особая выразительность, правдоподобие, характерность. Актуальной для современного театра становится интерпретация, построенная на актерских «находках», подчеркнуто индивидуализированная, демонстрируемая зрителю как оригинальный прием актерской игры.
П. Пави определяет два полюса актерской интерпретации: 1) «марионеточная» интерпретация, где игра актера определена и предусмотрена автором и постановщиком, т. е. происходит «стушевы-вание» интерпретации как таковой в пользу режиссерской трактовки, а артист не берет на себя пол- номочия ни транслирующего сообщения, ни трансформирующего его для передачи; 2) собственная интерпретация, самостоятельное переложение с целью созидания смысла, полное перевоссоздание произведения актером на основании средств, находящихся в его распоряжении [Пави П., с. 317].
Российский философ, теоретик искусства Г. Г. Шпет отмечает, что суть актерской интерпретации заключается в претворении текста в игру. Текст для актера – это задача, направление, идея, некий смысловой текст, имеющий форму литературного произведения. По мнению ученого, невозможно отождествлять текст с материалом актера. Драма как текст сценического произведения разворачивается на сцене благодаря «своему собственному» материалу актера, подвергнутому творческому осмыслению [Шпет Г.Г., с.405- 408 б)]. Таким образом, заданная актеру идея может воплощаться посредством его материала во множестве конкретизаций. Интерпретированная в сфере применения своего материала актером идея обнаруживает разрыв с литературным текстом, получая новое, творчески самостоятельное, конститутивное значение.
Однако Г. Г. Шпет оставляет за актером право интерпретации в равной степени с режиссерской интерпретацией. В этой тесной творческой взаимосвязи философ называет актера психологическим интерпретатором, а режиссера – вещным, материальным [Шпет Г.Г., с. 425-427 а)].
Приходим к выводу, что истинно созидательная актерская интерпретация кроется в производстве знаков, которые являются не столько результатом заранее существующей системы, сколько структурированием и производством этой системы. Так, в режиссерском театре, констатирующем отказ от следования авторскому тексту в его единственном значении, актерская интерпретация может быть равнозначной режиссерской.
Как было отмечено, интерпретация в театральном творчестве проявляется в многообразии конкретизаций одного и того же литературного произведения. В театре зритель, в отличие от других видов искусств, является включенным в структуру произведения. Несмотря на это, зритель не наделен полномочиями, в отличие от актера, моделировать хронотоп спектакля [4]. Интерпретация является одним из механизмов оценивания продуктивной работы творческого восприятия зрителя, его герменевтическое отношение к спектаклю. Российский театральный режиссер и теоретик театра Б. Е. Захава отмечал, что зритель отнюдь не пассивно наблюдает театральное действо, а, напротив, воспринимая его, в определенной степени участвует в создании спектакля. Эмоциональный контакт, возникающий в процессе сотворчества актера и зрителя, не только стимулирует процесс восприятия, но и формирует сам продукт театрального творчества – спектакль1.
Спектакль апеллирует к критическому вмешательству зрителя, способного интерпретировать действие, разворачиваемое в пространстве сцены, опираясь на свой прошлый опыт. Зрительская интерпретация строится на субъективном восприятии спектакля зрителем, поскольку отношение к спектаклю может быть двусмысленным, лишенным определенности. Зритель через серию знаков спектакля, посредством выявления сходства и различий между означаемыми разного рода определяет смысл сценического произведения. Спектакль, выделяя фрагмент бытия, структурирует его реальность, зритель же своим сознанием должен «развернуть» эту реальность. Таким образом, зритель интерпретирует текст спектакля, не добиваясь осмысления, но присутствуя при рождении смысла.
Кризис интерпретации обнаруживается в постдраматическом театре, основным постулатом которого является осознанный разрыв между литературой и театром, где сцена прекращает быть проекцией авторского текста, подменяя режиссерско-постановочные тропы механизмами структурирования словесного текста.
Освобождаясь от диктата драматурга, заставлявшего театр быть линейным, навязывая композиционную структуру произведения, миропостижения, театр уже не видит себя текстоцентрическим. Линейное построение драматургического текста ограничивает интерпретационные возможности современного театра, стремящегося транслировать идею ирреальности, конгломерата бесструктурной композиции.
Так, по мнению Х.-Т. Лемана, в постдраматическом театре, наделенном чертами перформативно-сти и визуальной драматургии, текст спектакля формируется за счет реорганизации театральных знаков. Выступая в качестве нового способа использования знаков, постдраматический театр представляется Х.-Т. Леману процессом, а не результатом, где театральный текст – энергетический импульс, а не информация [Леман Х.-Т., с. 137-138]. Следовательно, целью постдраматического театра становится перенесение акцента с авторского текста, характерного для драматического театра, на перформативность театрального текста, обусловленного его оригинальностью и эфемерностью.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что отличительной чертой интерпретации в театральной культуре является ее относительная свобода, что означает отсутствие конечного смысла произведения и, как следствие, спектакля. Историческое существование произведения характеризует ряд возможных конкретизаций.
Проблема театральной интерпретации в современной науке раскрывается в различных аспектах: структурном, содержательном и пр. Круг проблем театральной герменевтики основывается на соотношении различных видов интерпретации, заключающихся в выявлении смысловой структуры литературного первоисточника, постановочных концепций, исполнительского формовыражения, рецепции зрителя и т. д.
Результаты исследования. Интерпретация с точки зрения театрального творчества – сложный процесс, имеющий несколько уровней:
-
1) режиссерская интерпретация – интерпретация литературного произведения режиссером на основе собственного мировоззрения, понимания, художественных идей. Спектакль как интертекст является режиссерским переосмыслением авторского текста. Режиссерская интерпретация произведения характеризуется, с одной стороны, субъективной конкретизацией текста, с другой – поливариативностью прочтения, вскрывающей новые горизонты смысла;
-
2) актерская интерпретация режиссерского замысла произведения заключается в трансляции сообщения, заложенного в произведении автором и актуализированного режиссером. Высшим проявлением актерской интерпретации является перевоссоздание смысла на основании находящихся в арсенале артиста средств художественной выразительности;
-
3) зрительское прочтение-интерпретация авторского произведения основывается не столько на осмыслении, сколько на интерпретации текста спектакля, созданного режиссером и актером. Иными словами, зрительская интерпретация является своеобразным результатом понимания авторского замысла, транслируемого режиссером.
Выводы: «Герменевтический круг» театральной интерпретации актуализируется при условии дискурса элементов спектакля. В связи с этим в процессе спектакля происходит подтвержде-ние/опровержение знаков. Следовательно, спектакль является открытой системой, обращающейся одновременно к смыслу и значению сцены. Театральный текст обнаруживает множественность смысла, что обусловливает множественность равноправных интерпретаций. Принцип множественности интерпретаций, в свою очередь, реализует принцип нелинейности в организации дискурса. Такие текстовые категории, как множественность, незавершенность, нелинейность, открытость, формируют гипертекстуальность художественных текстов. Благодаря открытости произведения текст можно использовать в качестве последовательных и неокончательных интерпретаций, что создает многообразие взаимодействий текста и сцены.