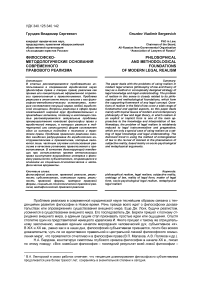Философско- методологические основания современного правового реализма
Автор: Груздев Владимир Сергеевич
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 12, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблематика использования в современной юридической науке (философии права и теории права) реализма как приема или концептуально оформленной стратегии правопознания и правопонимания. Проблема реализма в этом ключе тесно связана с его философско-методологическими основаниями, которые составляют несущий каркас любой юридической концепции. Вопросы реализма в сфере права охватывают широкий круг фундаментальных и прикладных аспектов, поэтому в настоящей статье рассматриваются актуальные проблемы преимущественно новейшей философии права и юридической теории, в которых реализм в подчеркнутой или имплицитной форме составляет один из основных подходов к познанию и трактовке права. Проблема правового реализма сегодня ошибочно редуцирована до юридического инструментализма и прагматизма, которые являются лишь частным случаем использования реализма в качестве установки правопознания и правопонимания. В качестве доминирующей тенденции при использовании приема онтологизации права выступает возрождение интереса к феномену реальности субъективного, опирающегося в основном на социально-психологические и метафизические аргументы.
Философский реализм, правовой реализм, реальность субъективного, онтология права, реальность правовой формы, материя правовой формы, социально-психологический правовой реализм, метафизический правовой реализм
Короткий адрес: https://sciup.org/149134247
IDR: 149134247 | УДК: 340.125:340.142 | DOI: 10.24158/pep.2020.12.19
Текст научной статьи Философско- методологические основания современного правового реализма
Проблема реализма в современной юридической науке теснейшим образом связана с тенденциями развития философии в Новое время. Речь прежде всего идет о философских доказательствах или опровержениях существования внешнего мира. Еще Дж. Локк, будучи реалистом, усомнился в существовании внешнего мира. Его последователь Дж. Беркли пришел к полному отрицанию внешнего мира, а единым сущим стал признавать простые идеи или ощущения. Спустя столетие один из представителей немецкого идеализма И. Фихте пришел к такому же отрицательному заключению, называя единым началом мироздания человеческий дух, субъективное «я». В XIX и XX вв., равно как и в наши дни, философский субъективизм признается, почти без всяких доказательств, чуть ли не единственно правильной и центральной линией философского осмысления мира ∗ , что проявляется отчетливо и в философии права (В.П. Малахов, А.В. Поляков и др.).
Н.А. Бердяев, констатируя симптомы глубокого кризиса философии в начале ХХ в., писал по этому поводу: «Вся новейшая философия – последний результат всей новой философии –
∗ В.А. Лекторский в своих работах отмечает, что тенденция доминирования философского субъективизма продолжается уже более трехсот лет, сохраняясь в значительной степени и сегодня.
ясно обнаружила роковое свое бессилие познать бытие, соединить с бытием познающего субъекта. Даже больше: философия эта пришла к упразднению бытия, к меонизму, повергла познающего в царство призраков. Критическая гносеология начала проверять компетенцию познания и пришла к тому заключению, что познание не компетентно связать познающего субъекта с объектом познания, с бытием. Реалистическое чувство бытия и реалистическое отношение к бытию – утерянный рай» [1, с. 12]. Предлагая собственное видение путей преодоления кризиса философии в обращении к религии как жизненной основе философии, питающей ее реальным бытием [2], он отстаивал мысль о том, что настоящим испытанием для всякой философии является «истинное решение проблемы реальности , проблемы свободы , проблемы личности ». По утверждению Н.А. Бердяева, «подозрительна та философия, для которой реальность – призрачна, свобода – призрачна, личность – призрачна» [3].
Как писал Н.А. Бердяев, «современная философия – философия иллюзионистская по преимуществу, ее гносеология отвергает не только реальность отношения к бытию, но и само бытие, лишает человека изначально сознания свободы, свободы безмерной и безосновной, разлагает личность на дробные части, отвергая ее изначальную субстанциональность» [4]. Поэтому он всецело захвачен вопросом о реальности, которая и есть истинное пространство, субстанциональная основа свободы и личности. Отсюда понятны акценты и приоритеты в гносеологии: научное познание – прагматический позитивизм, философское – мистически-религиозный реализм, а критическая гносеология субъективизма объявляется им «дурной метафизикой».
Спустя столетие после критики субъективизма в работах Н.А. Бердяева о тех же по существу симптомах кризиса философии пишет наш современник В.А. Лекторский, выступающий в защиту философского реализма. Он, в частности, отмечает, что последние два десятилетия ознаменовались в отечественной литературе доминированием антиреализма. «Многим кажется, – пишет В.А. Лекторский, – что философский реализм по отношению к науке (научный реализм) или обыденному опыту (наивный реализм) – анахронизм, что и наука, и философия, и социальная жизнь выявили его несостоятельность и что защищать философские реализм в наше время дело безнадежное» [5, с. 4].
В.А. Лекторский справедливо обращает внимание на то, что вся европейская философия, а также многие науки о человеке на протяжении последних трех веков были проникнуты философским субъективизмом, мыслью о том, что человеку непосредственно дан лишь его субъективный мир. Эта точка зрения и сегодня остается весьма популярной. Общая тенденция именно такая. Но, вознося солипсизм как установку познания, отказываясь от внешней реальности, объективного мира, философы, в том числе философы права, должны подобрать некую философскую форму для бытия и существования этого исключительного «я». Ведь это «я» должно где-то бытийствовать, чтобы его можно было понимать как философскую проблему. Равно как субъективное «я» должно иметь свое существование, некую конкретность, явленность, что только и позволяет фиксировать субъективное «я» не как случайное, мимолетное, трудноуловимое, бесформенное, а как нечто цельное и единое, как сущность и явление внутри себя и в некой оформ-ленности, объективированности.
Отсюда мир реальности духа: у И. Канта и И. Фихте – мир субъективного; у Ф. Шеллинга и Г. Гегеля – мир объективного, оторванного от субъекта. Во всяком случае духовное, в отличие от одностороннего материализма софистов античности, в Новое время – это тоже реальность, которая признается, обнаруживается, осмысливается в категориях, подчеркивающих реализм субъективного сознания: его бытия, существования, действительности, данности и т. п. Поэтому с отказом от реализма внешнего мира приемы анализа сознания как внутренней субъективной реальности (реальности субъективного), соответствующие понятийные конструкции изучения и трактовки закономерностей внешнего мира почти не были отвергнуты, в основном они оказались просто средствами познания по-прежнему реальности, правда, теперь другого типа. Но тогда речь должна вестись, по существу, о реализме как необходимой гносеологической предпосылке современной теории познания. Например, в постсоветский период в философии права и теории права актуальными оказались традиционные подходы, возникшие в западноевропейской философии, по крайней мере, с Р. Декарта, в частности, философский субъективизм, который с третьей четверти XIX в. значительно укрепился за счет союза с психологией, начавшей развиваться как самостоятельная наука.
В наше время представители так называемой Петербургской школы философии права А.В. Поляков и И.Л. Честнов [6], опираясь в основном на идеи Л.И. Петражицкого, обозначили как основную творческую задачу обоснование «новой правовой реальности», «новой онтологии права», а именно реальности субъективного на основе идеи социально-психического приспособления (психического и социального общения) [7, с. 597]. В русской юридической литературе эту позицию до Л.И. Петражицкого отстаивал в конце 1870-х гг. П.В. Деларов [8]. В работах В.П. Малахова [9] схожим образом, только с опорой на взгляды советского философа М.К. Мамардашвили, звучит призыв к метафизическому разъяснению новой правовой реальности, подчеркнуто обособляемой исследователем от психологического реализма ввиду их явного внешнего сходства.
Если мы принимаем за исходную идею в области познания права мысль о том, что единственным подлинным объектом познания является субъективная реальность, или реальность субъективного, то лишь тогда можем в этой реальности обнаружить закономерности, раскрывающие ее сущность, возможные конкретные проявления и т. п. Иначе как может познаваться то, что не имеет закономерного внутри себя? Еще Парменид сравнивал понятия реальности как размытого понятия и бытия как простого понятия. Последнее неопределимо, потому что является простым, смысл которого обнаруживается его принципиальным отличием от небытия. Поэтому понятие реальности в философии Нового времени и современных концепциях по-прежнему редко имеет строго определенный вид.
Реальность на философском и даже научном языке, в отличие от обыденного, легко адаптируется к любому набору гносеологических подходов и приемов. Она почти обязательно будет присутствовать в том или ином - явном или имплицитном - виде. Поэтому в интересующей нас области, в области юридической науки и литературы, когда ставится вопрос о реализме или реалистическом в правопонимании, всегда, имея в виду философско-правовой подход, употребление этих характеристик и определений требует существенных уточнений: какой тип реализма положен в основу, какой тип реальности признается, какие приемы признания или конструирования реальности используются и т. д. Кроме того, реализм как стратегия правопознания присутствует во многих концепциях и теориях, которые даже не позиционируют себя как таковые. Это связано с тем, что реализм является существенным и необходимым гносеологическим приемом для распознавания закономерностей как субъективного, так и объективного в праве.
Реализм отнюдь не ограничивается онтологизацией социального опыта или социальных отношений, т. е. так называемым социальным реализмом. Он может носить психологический, социологический, формально-юридический, социокультурный, идейно-понятийный, религиозномистический, прагматистско-позитивистский, гносеологический (в узком смысле), материалистический и иной характер, который задается в рамках стратегии правопознания. Наиболее существенное в этой стратегии или приеме, если он менее разработан, состоит в том, что в рамках процедуры правопознания осуществляется сознательная, или концептуальная, онтологизация права (в институциональной или интеллектуальной форме) как объекта познания с целью выявления и объяснения его закономерностей и функциональных связей. Например, на протяжении уже более двух веков в философско-правовой литературе встречается такой прием, как отождествление права с организмом.
Данный момент легко обнаруживается в работах немецких философов-идеалистов, а в XIX столетии приобретает невероятную популярность среди философов права и юристов. Это позволяет рассматривать право как нечто цельное, напоминающее собой организм, который имеет внутреннюю и внешнюю природу, структуру и функции. Соответственно, по аналогии с восприятием организма, его анатомией и физиологией описывается природа права. В наше время уже как само собой разумеющееся воспринимается использование структурно-функционального анализа в обсуждении права и правовых явлений. Хотя в действительности мы понимаем, что такой прием является следствием использования в гносеологических целях модели определенной онтологизации права. Соответственно, даже в субъективизме или солипсизме можно отчетливо проследить, как право в своей субъективной реальности моделируется с точки зрения элементов, связей, функций, что возвращает непременно к логике реализма как стратегии правопознания.
В работах В.С. Нерсесянца [10] и С.С. Алексеева [11] используется общий (хотя в каждом случае по-своему) прием онтологизации правовой формы, признается объективная реальность правовых формальностей, формально-правовая реальность. Это позволяет, с одной стороны, рассматривать право с точки зрения закономерностей правовой формы, отвлекаясь от содержания; с другой - обнаружить в правовой форме, которая онтологизирована, собственную материю, материю формы. Утверждая последовательно мысль об объективной реальности права, С.С. Алексеев в работах постсоветского периода писал: «.само право (именно как “форма”! -вот такой здесь парадокс) имеет свою материю, - материю права , выраженную главным образом в догме права , во всей системе правовых средств ...» [12, с. 25], а «сила права как формы. - это сила собственной материи права, когда право слито с ее внутренней организацией, структурой», что «и дает обоснование собственной ценности права как особой объективной реальности, отличающейся специфической логикой и силой в жизни людей » [13].
Таким образом, в современных подходах к обоснованию права реализм используется широко, в первую очередь в качестве философско-методологической стратегии правопознания и правопонимания. Он является не просто вспомогательным, а принципиально значимым приемом (совокупностью методологических средств), одной из ключевых установок разработки и разъяснения правовой проблематики, т. к. позволяет фиксировать в сфере познания права его собственную сферу бытия (в отличие от политики, экономики, религии, культуры и т. д.), включая все последующие атрибуты онтологического статуса (существование, действие, действительность, данность и т. п.), как нечто непознанное и неконкретное, но именно благодаря этому обладающее проблемностью. В настоящее время доминирующей тенденцией в отнологизации права как стратегии правопознания и правопонимания выступает моделирование или распознание реальности субъективного с помощью социально-психологических или метафизических аргументов.
Ссылки:
-
1. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 2015. 522 с.
-
2. Там же. С. 14.
-
3. Там же. С. 15.
-
4. Там же.
-
5. Лекторский В.А. Реализм как философско-методологическая стратегия исследования познания // Перспективы реализма в современной философии. М., 2018. С. 4–25.
-
6. Поляков А.В. Коммуникативная концепция права (генезис и теоретико-правовое обоснование): дис. … д-ра юрид. наук в виде науч. доклада. СПб., 2002. 94 с. ; Честнов И.Л. Право как диалог: к формированию новой онтологии правовой реальности. СПб., 2000. 104 с.
-
7. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб., 2000. 608 с.
-
8. Деларов П. Очерки по энциклопедии права. СПб., 1878. 548 с.
-
9. Малахов В.П. Природа, содержание и логика правосознания: дис.... д-ра юрид. наук. М., 2001. 502 с.; Его же. Концепция философии права. М., 2007. 751 с.
-
10. Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2009. 848 с.
-
11. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001. 752 с.
-
12. Алексеев С.С. Теория права: поиск новых подходов. Екатеринбург, 2000. 250 с.
-
13. Там же. С. 25.
Редактор, переводчик: Арсентьева Ирина Ильинична
Список литературы Философско- методологические основания современного правового реализма
- Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 2015. 522 с
- Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 2015. С. 14.
- Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 2015. С. 15.
- Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 2015. С. 15.
- Лекторский В.А. Реализм как философско-методологическая стратегия исследования познания // Перспективы реализма в современной философии. М., 2018. С. 4-25