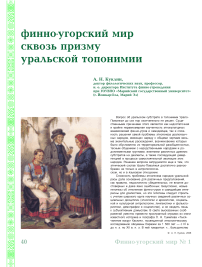Финно-угорский мир сквозь призму уральской топонимии
Автор: Куклин А.Н.
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Языковая палитра
Статья в выпуске: 1, 2008 года.
Бесплатный доступ
Автор поднимает вопрос об уральском субстрате в топонимии Урало-Поволжья, увязывая его со сложными и неодно-значными проблемами этногенеза народов уральской расы. Вывод о неосновательности рассмотрения топонимической системы Урало-Поволжья как результата творчества только ныне проживающих там народов: в таком случае игнорируются хронологические срезы и факты воздействия на ее формирование субстратных, суперстратных и иных явлений.
Топонимия, урало-поволжье, этногенез, финно-угры, самодийцы, уральская раса
Короткий адрес: https://sciup.org/14722764
IDR: 14722764
Текст научной статьи Финно-угорский мир сквозь призму уральской топонимии
А. Н. Куклин, доктор филологических наук, профессор, и. о. директора Института финно-угроведения при ГОУВПО «Марийский государственный университет» (г. Йошкар-Ола, Марий Эл)
Вопрос об уральском субстрате в топонимии Урало-Поволжья до сих пор окончательно не решен. Существенными причинами этого являются как недостаточная и крайне неравномерная изученность этнокультурных взаимосвязей финно-угров и самодийцев, так и сложность решения самой проблемы этногенеза уралоязычных народов, имеющих наряду с общими чертами весьма значительные расхождения, возникновение которых было обусловлено их территориальной разобщенностью, тесным общением с неродственными народами и родоплеменными группами, влиянием различных древних субстратов на диалекты, а также последующей дивергенцией в процессе самостоятельной эволюции этих народов. Решение вопроса затрудняется еще и тем, что этнический состав Урало-Поволжья достаточно разнообразен не только в антропологическом, но и в языковом отношении.
Сложность проблемы этногенеза народов уральской расы дала основание для различных предположений, как правило, недостаточно убедительных, не вполне достоверных и даже явно ошибочных. Безусловно, новые гипотезы об этногенезе финно-угров и самодийцев интересны для уралистики, но эти гипотезы следует строить с учетом широкого круга научных сведений различных социальных дисциплин (этнологии и археологии, социальной и культурной антропологии, лингвистики и фольклористики, демографии и социологии), а не сводить лишь к субъективным домыслам. В свете высказанных соображений уместно привести пространный отрывок из книги известного историка и географа Л. Н. Гумилева «Тысячелетие вокруг Каспия», посвященной этнологическому исследованию ойкумены Евразии за 1 500 лет — с III в. до н. э. по XII в. н. э. В ней говорится: «…большинство
Финно-угорский мир № 1
северных народов Восточной Европы имеют два раздела: финский — древний и угорский — пришлый. Мордва: эрзя — финны, мокша — угры. Мари: горные черемисы — финны, луговые — угры. “Чудь белоглазая” — финны, Чудь Заволоцкая — угры (Чудь Заволоцкая, или Великая Пермь, — Биармия скандинавских саг).
Видимо, южным этносом были лопари, сменившие свой древний язык на финский. Язык, поскольку он является средством общения, бесписьменные этносы меняют легко и часто. Передвигаться же по тундре с востока на запад, на Кольский полуостров и в Северную Норвегию, было и тогда несложно.
И, наконец, в этногенезе чуваш принимали участие местные финно-угорские и тюркские племена. Поскольку чувашский язык принадлежит к наиболее архаичным тюркским языкам, сопоставление его с гуннским правдоподобно.
Заметим, что все перечисленные этносы живут около Волги и ее притоков или поблизости от них. Значит, именно Волга, замерзающая зимой, была дорогой угров и гуннов на север. Ту же роль в Зауралье играли Обь и Енисей. Угро-самодийцы обрели новую родину, заменив собой древние циркумполярные этносы, от которых сохранился только один реликт — кеты.
В предлагаемой реконструкции гипотетична только дата переселения — III—IV вв. Она является выводом дедуктивным, т. е. предлагается на базе изучения всей климатической и этнической истории. Действительно, ни до, ни после этой даты не было ни мотивов, ни возможностей для столь большой миграции»1.
Разумеется, в рассуждениях Л. Н. Гумилева много мистификации и они ни в коей мере не согласуются с идеей формирования отдельных языков и их диалектов в ходе дивергентного процесса. При этом, однако, следует уточнить, что совокупность интегрирующих и дифференцирующих свойств этноса, а также этнические процессы, которые Ю. В. Бромлей делит на «этноэволюционные» и «этнотрансформационные»2, не могут рассматриваться без учета лингвистических данных, а они в работе Л. Н. Гумилева вовсе отсутствуют. Что касается этнических процессов Урало-Поволжья, то они были весьма сложны-ми3. Поэтому в его ономастиконе наряду с автохтонными топонимами встречаются разноязычные вкрапления, нередко даже экзотические, смысловые содержания которых на материалах современных языков народов Урало-Поволжья не поддаются объяснению.
Особого внимания заслуживают древние топонимы, анализ которых, как справедливо подчеркивает А. П. Дульзон, чрезвычайно затруднен тем, что они в современном своем виде представляют собой не просто результат различных напластований или наслоений на некое древнее ядро, которое возможно было бы найти, сняв эти напластования, древние топонимы нередко полностью модифицировали свой облик вследствие ряда сложнейших изменений: путем отсечения тех или иных частей, скрещения данного слова с другими инородными (гибридизация), путем субституции звуков первоначального языка звуками последующего, путем новой
Языковая палитра морфологизации слова в соответствии со строем нового языка, сменившего предыдущий, путем более или менее полного переосмысления старого названия в целом или отдельных его частей, что неизменно влечет за собой те или иные внешние изменения…4
К разряду реликтовых географических названий Урало-Поволжья относятся топонимы угро-самодийского происхождения, представляющие собой загадку, разгадка которой закодирована многовековыми изменениями их фонетического облика и значительными преобразованиями смыслового содержания. Вопрос об угорском субстрате в топонимии Урало-Поволжья не является чем-то абсолютно новым. Он привлекает внимание лингвистов с давних пор5. Причем неоднократно предпринимавшиеся попытки отдельных ученых определить угорские элементы в топонимиконе северной и средней полосы Восточной Европы последующими исследователями оценивались скептически или же вообще опровергались.
Что касается вопроса о самодийском субстрате в названиях местностей Восточной Европы, то он в лингвистической науке прямо не ставился. Однако отдельные исследователи, осмысливая происхождение древних гидронимов Урало-Поволжья, в частности названий речных объектов Республики Марий Эл, не обошлись без фрагментных экскурсов в область самодийских языковых данных6.
Первым из исследователей, высказавшим мысль об угорской топонимии в северной и средней полосе России и пытавшимся обосновать ее конкретными примерами, был Д. Европеус. Так, в своей статье «Къ вопросу о на-родахъ, обитавшихъ въ средней и с h верной Россiи до прибытiя славянъ» он выразился так: «Въ теченiе бол h е ч h м десяти л h т я им h лъ случай заниматься сравни-тельнымъ изученiемъ языковъ финско-венгерскихъ, при чемъ уб h дился, что эти до-русскiя названiя м h стностей, встр h чающiяся въ с h верной и средней Россiи отъ Ле-довитаго океана до р h ки Оки и до городовъ Витебска и Полоцка, большею частью югорскаго или угорскаго происхожденiя, т. е., принадлежатъ языку прад h довъ нын h шнихъ Венгровъ, или Мадьяровъ, Вогуличей и Остя-ковъ»7.
Как явствует из высказывания Д. Европеуса, вопрос о западной, южной и северной границах угорской топонимики был поставлен лишь им, он и пытался определить их в самом общем виде. Одна из важных задач, стоявших перед исследователем, — вычленение из структуры топонимов однотипных окончаний, присущих, по его мнению, угорским языкам, и объяснение семантики топоосновы. В качестве иллюстрации можно привести следующие примеры: исходной формой речного названия Вычегда Д. Европеус считает композиту Вытшагет , где выт — ‘вода’, шагет — ‘рукав’, т. е. водяной рукав; приток, изобилующий водой. Гидроним Вологда возводится им к форме Водшагет , что означает ‘зверь-приток’. К окончаниям, ярко проявляющим свою продуктивность в гидронимообразовании, как он замечает, относятся -егда, -огда ( Вычегда, Печегда, Вологда, Судогда ) с вариантами тагет (в хантый-


ском), тагил, тагул (в мансийском), восходящими к древнеугорскому таит , образованному из более древнего шагет, шагеш ‘рукав’; -шера ( Вышера, Нившера ); -енга ( Лапшенга, Мехренга, Нименга ) и др. Другой существенной задачей исследования угорских следов в топонимии Восточной Европы было, видимо, вычленение по возможности всех примеров угорского типа. Так, названий рек с окончанием -енга в Северной России насчитывается 339, в Финляндии — 1628.
Заметим, что указанная работа Д. Европеуса в сжатой форме охарактеризована А. В. Поповым в статье «К вопросу о хорографии и палеоэтнографии Иркутской губернии»9. Под иным углом зрения ее рассматривает А. И. Туркин в тезисах доклада «Топонимика Севера России в трудах финно-угроведов XIX — начала XX в.», отмечая, что «нельзя отрицать существования в севернорусской топонимике как угорского, так и других пластов уральского типа»10.
Кроме вышеупомянутой статьи А. В. Попов анализирует еще две работы Д. Европеуса: «О курганныхъ рас-копкахъ около погоста Б h жецъ» (Журнал Министерства народного просвещения. 1872. Декабрь) и «Объ угорском народ h , обитавшемъ в средней и с h верной Россiи, въ Финляндiи и в с h верной части Скандинавiи до прибытiя туда нын h шних ихъ жителей» (СПб., 1874). Сосредоточивая внимание на основном содержании работ, А. В. Попов замечает, что в первой из них
Д. Европеус снова подтверждает принадлежность к угорскому языку окончаний -уга, -юга, -ого , - его и явное сходство с ними финских: речка — joku , саам. joga , хант. jeaga , joga , манс. je, ja , коми-зыр. ju ; во второй приводится список 36 угорских окончаний названий местностей в Финляндии, в северной и средней полосе России11.
Не отрицая в целом сущности постулируемой Д. Ев-ропеусом тезы, заметим, что географические названия средней и северной полосы Восточной Европы рассматриваются им исключительно сквозь призму угорских языков. Что же касается охвата лингвистиче-ских данных языков финской ветви, то он сведен к минимуму, а элементы, имеющие параллели в самодийских языках, вовсе упускаются из виду. Так, например, компонент -енга в гидронимах Печенга, Успеченга, Печеiенгъ возводится Д. Европеусом к угорским источникам. По его мнению, «Печеiенгъ значитъ по-остяцки сосна-вода = сосновая вода, а также и просто печенг по-остяцки и по-вогульски значит сосновая»12. В северной полосе России он насчитал 11 гидрообъектов с таким названием. Правда, в работе «Объ угорскомъ народ h , обитавшемъ въ средней и с h верной Россiи, въ Финляндiи и въ с h верной части Скандинавiи до прибытiя туда нын h шнихъ ихъ жителей» автор уверенно сообщает о наличии 15 рек с названием Печенга , из них 14 находятся в разных местах северной России, а одна — в северо-западной Финляндии.
К сказанному в порядке уточнения следует добавить, что реки с аналогичным названием встречаются также в Восточной Сибири и даже на Дальнем Востоке, ср., например: Печенга — один из притоков Енисейского Пита, а также средний приток Алдана13.
Таким образом, надо полагать, что гидролексема -енга/-еньга представляет собой прафинно-угорский архаизм, унаследованный из эпохи диалектного развития уральского языка-основы, имевшего непосредственные контакты с диалектами тунгусо-маньчжурских языков. Поэтому в гидролексеме -енга/-еньга сибирских названий рек вполне допустимо видеть эвенкийское (тунгусское) йен ‘большая река; исток реки’ и селькупское -га/*-ка ‘река’14. Уместно привести одно любопытное высказывание А. П. Дульзона: «Предшественниками кетов на нынешних местах их жительства (на Елогуе и Курейке — притоках Енисея. — А. К. ) были эвенки, а частью селькупы, что и отразилось в топонимике. Наряду с кетами на Курейке до сих пор проживают эвенки и селькупы, нередки браки между ними»15.
Необходимо, однако, помнить, что интерпретация географического названия на основе лишь внешних звуковых соответствий с данными какого-то определенного языка, не имеющего, быть может, никакого отношения к его возникновению, всегда оставалась далекой от реальной действительности, т. е. искусственной, а потому и малоубедительной. Все это еще раз говорит о том, что анализ даже частных фрагментов, таящихся в семантической плоскости и морфонологической структуре реликтового названия, должен учитывать исторические и регионально-этнические обстоятельства, а также результаты влияния языка-субстрата.
Что касается этноисторических процессов Севера Восточной Европы, то они весьма напоминают этнические процессы Урало-Поволжья. Так, Л. Н. Жеребцов в «Кратком очерке этнической истории древнейшего населения бассейнов Вычегды и Печоры», ссылаясь на выводы археологических исследований, подчеркивает, что в пределах указанного ареала в период позднего неолита прошли две волны заселения: первая была из Прикамья, вторая — из более дальнего района, из Волго-Окского междуречья. Признавая справедливость такой оценки, он замечает, что Б. А. Серебренников топонимические названия бассейнов Печоры и Вычегды на -ым, -им, -ум относит к «западносибирским», предполагая вторжение их носителей из-за Урала. Вместе с тем этническая принадлежность западносибирского населения Б. А. Серебренниковым не указана. В этом отношении, как далее отмечает Л. Н. Жеребцов, показательна работа А. К. Матвеева, считающего указанную топонимику дообскоу-горской и допускающего возможность обитания к северу от предков финно-угров палеосибирских племен (палеосибирским называет дообско-угорское население Зауралья и Западной Сибири А. П. Дульзон), языки которых могли быть в какой-то степени родственны древним уральским)16. Здесь следует, однако, уточнить, что языковая принадлежность дообско-угорской гидронимии, как подчеркивает А. К. Матвеев, пока не установлена; она может восходить к уральским языкам, так как типологически дооб-ско-угорская гидронимия не отличается от уральских (финно-угро-самодийских) топонимов, но допустимо также, что она связана с неизвестными нам неураль-
Финно-угорский мир № 1
скими языками палеосибирского происхождения17.
-
А. К. Матвеев придерживается и другого мнения. В одной из своих статей он сообщает: «Если рассматривать возможность обитания угров на Русском Севере в принципе, так сказать, теоретически, то, конечно, эту версию совершенно исключить нельзя, но если на Севере и были угры, то не обские, а какие-то особые, впоследствии полностью вымершие»18. По словам автора, мнение о том, что места былого обитания манси находились к западу от Урала, о чем довольно решительно писали А. Каннисто19 и А. Ф. Теплоухов20, не подтверждается фактами.
Заметим, что следы угров на Западном Урале, Верхней Каме, Верхней Вычегде, Чепце и Среднем Прикамье отмечаются и в других работах, выполненных в последние десятилетия21, которые, однако, остались вне поля зрения А. К. Матвеева.
К точке зрения лингвистов и археологов в определенной степени примыкают и высказывания коми-фольклориста А. К. Микушева, обратившего внимание на то, что бассейн Вятки и Камы некогда был колыбелью и прапермян, и праугров: после отделения венгров от восточных угров в I тысячелетии до н. э. последние еще длительное время оставались в Прикамье и только в XII—XIV вв. окончательно переселились с западных склонов Урала в Западную Сибирь, сохранив, однако, историко-культурные контакты с пермянами. Развивая мысли лингвистов, А. К. Микушев справедливо замечает, что в пермско-угорских языковых контактах четко выделяются два пласта (древний, восходящий к периоду соседства пермян и угров на западных склонах Урала, — до X—XV вв.; более поздний, датируемый временем переселения угров на Обь, — XVI—XIX вв.), которые подтверждаются и исследованиями фольклористов. Так, архаический, или древний, пласт представлен, во-первых, угорскими героическими военными сказаниями, медвежьими песнями и так называемыми импровизационными «песнями судьбы», а во-вторых, пермским родоплеменным эпосом о Кудым-Оше, о младшем вымском богатыре и чудовище с Шомвуквы, о Медвежонке-батыре и ижемскими лиро-эпическими песнями-импровизациями автобиографического характера. Второй по времени пласт образуют сравнительно более поздние эпические песни и сказания о Кироне, Пере-богатыре, Идне-батыре. По мнению А. К. Микушева, близок к ним, несмотря на свои архаические истоки, севернокоми-ижмоколвинский эпос, возникший в XVI—XIX вв. на пересечении угро-самодийско-пермских фольклорных традиций22.
Как явствует из вышеизложенного, имеется достаточно оснований для того, чтобы говорить о наличии угорских топонимов к западу от Урала. Что касается географических названий Урало-Поволжья, то некоторые из них объясняются лишь на материалах угорских языков23. Кроме того, в отдельных названиях наряду с угорскими усматриваются и самодийские лексические элементы. Поэтому следует полагать, что в их сложении определенную роль сыграл самодийский языковой субстрат. Так, название рек Большой и Малой Юнги — мар. Кого Йы-
Языковая палитра гы и Арйы-гы, — впадающих с правой стороны в Волгу на территории Горномарийского района Марий Эл, обычно отождествляют с хант. йынк ‘вода’24, ср. манс. вить ‘вода’25. Однако, судя по семантике и внешнему сходству, это название генетически более совместимо с нен. юнко ‘речка’, ‘короткая протока’, что позволяет сделать вывод об уральском его происхождении26.
Достоверность интерпретации топонима зависит от того, насколько точно определена языковая реальность прошлого на культурно-историческом фоне исследуемого региона. Причем процедура семантической реконструкции лексемы значительно облегчается благодаря общему объему информации, почерпнутой из различных источников (археологических, этнографических, фольклорных и иных), которые нередко могут указать исследователю прямой путь к истине (как к относительной, так и к абсолютной).
Практика этимологических изысканий свидетельствует и о том, что семантическая реконструкция реликтовой лексемы становится гораздо менее убедительной или даже ошибочной, если игнорируется реальная историкокультурная ретроспектива употребления слова и сужается круг сопоставляемых лексем. Несоблюдение исторической перспективы в определении генетических истоков тополексемы, воссоздании ее стертой исходной семантики и интерпретации современного ее функционирования в топонимической системе Урало-Поволжья, как правило, ведет исследователя к анахронизмам и даже к выводам, которые никак не согласуются с подлинной лингвистической картиной прошлого региона. Более того, недоразумение здесь вызывают попытки отдельных исследователей игнорировать уральский субстрат или проецировать в финно-пермское языковое состояние элементы лексической системы самодийских языков.
Сказанное можно проиллюстрировать конкретными примерами. Так, отгидронимный ойконим Шор-Уньжа (мар. Унчо ) Д. Е. Казанцев считает пермским по происхождению. В связи с этим препозитивный компонент ойко-нима им справедливо сопоставляется с коми-зыр. шор и удм. щур ‘ручей’. Что касается второго компонента, то в нем легко угадывается коми-зыр. удж. ‘нельма’ (ср. манс. унш ‘нельма’ — ценная промысловая рыба северных рек и морей семейства лососевых). При этом автор обращает внимание на неслучайность сопоставления, рассматривая соответствие мар. инлаутного сочетания -нч- коми-зыр. -дж- в генетически связанных словах: мар. вончаш ‘переходить’, коми-зыр. вуджны ‘переправиться, перейти’, мар. йончаш ‘сочиться, просачиваться’, коми-зыр. йиджны ‘всасываться, впитаться; просачиваться’27.
Однако, имея в виду неоднородность рефлексации финно-угорского консонантного сочетания -nč- в марийском и коми языках, трудно предположить в этом процессе строго закономерное явление. К сказанному следует добавить, что изменение *-nč- в коми языке в большинстве случаев сопровождалось диэрезой сонанта n с последующим озвончением аффрикаты č . В определенном круге слов инновационная аффриката вследствие утраты аффрицирующего (смычного) элемента преврати-
лась в .
На почве марийского языка изменение инлаутного сочетания *-nč- происходило в двух основных направлениях: 1) упрощение его до одинарного звука вследствие устранения сонанта n ; 2) озвончение аффрикаты под действием контактной прогрессивной ассимиляции — характерное явление для многих диалектов. Ср., например: мар. к¢ч , коми гыж , морд. кенже ‘ноготь’; ф.-у. čеnčз ‘утка’ > коми чож , диал. č е , эрзя-морд. шенже ‘дикая утка’28; ф.-у. *panče-/*pače- ‘открывать, отворять’ > марГ пачаш , марЛ почаш , эрзя-морд. панжомс , мокша-морд. панжемс ‘открыть’, хант. punč -29; мар. вонч -( won -) ‘переходить’, ‘переезжать’, коми-зыр. вудж - (vu ) 30; морк.-серн. п¢н’чо , п¢’н’д’ж’о , КУ, волж. п¢н’д’ж’о, марГ п¢нжо , коми-зыр. пожом ‘сосна’ < урал. *pеnčä/*pеčä ‘со-сна’31.
Приведенные примеры лишний раз убеждают в неправомерности сопоставления генетически не связанных друг с другом лексем Уньжа (Унчо) и коми-зыр. удж ‘нельма’. Между тем ключ к установлению происхождения гидронима Уньжа дают его западносибирские двойники, ср., например, названия небольших рек на территории проживания селькупов: Унжа , р., левый приток р. Каилки; Квенал-унжа , р., правый приток р. Пайдугина; Пуныл-ундж , р., левый приток р. Чижапки, где модифицированное русским языком слово унжа восходит к селькупскому унджъ ‘ручей, речка’32. По наблюдениям Э. Г. Беккер, в карасинском диалекте селькупского языка оно бытует в форме унджа , у тымских селькупов — унджъ 33. Судя по приведенным материалам, гидроним Уньжа (мар. Унчо ), безусловно, имеет генетические связи с селькупским словом, что свидетельствует о его архаичном, субстратном характере.
Между тем для воссоздания лингвистической реальности, в условиях которой возник топоним Шор-Уньжа (Моркинский р-н Марий Эл), значительный интерес представляют сведения о Шоруньжинском могильнике, к сожалению, недостаточно систематизированные. Так, руководствуясь соображениями археолога Г. А. Архипова, Д. Е. Казанцев утверждает, что по типам азелинских вещей от него существенно не отличается Младший Ахмыловский могильник (V—VII вв. н. э.), расположенный недалеко от устья Ветлуги. Исходя из этого, он относит Шоруньжин-ский могильник к числу азелинских памятников34.
Однако данный вывод является неправомерным. Этому противоречит в первую очередь то обстоятельство, что Младший Ахмыловский могильник, как замечает Г. А. Архипов, имеет много отличительных признаков, в частности три разнокультурных комплекса вещей. На этом фоне конкретизирующим представляется следующее высказывание ученого: «Азелинцы, по-видимому, имели значительную примесь угорских племен, что выражается в наличии керамики с рамчатым (решетчатым) штампом»35. Наконец, говоря об азелинцах, нельзя не упомянуть еще одну работу Г. А. Архипова, содержащую полярно противоположный вывод о том, что «материальная культура азелинцев определяется чисто прикамской
без примеси других культур финно-угорских племен»36. В связи с этим нелишне отметить, что специалистом по средневековой археологии удмуртов М. Г. Ивановой «памятники азелинской и мазунин-ской культур рассматриваются в рамках пьяноборской и худяковской культур»37.
В силу изложенного представляется, что к настоящему времени в археологических исследованиях накопилась довольно значительная совокупность противоречий, побуждающих серьезно усомниться в правильности установления этнической идентификации многих памятников Урало-Поволжья и их исторической интерпретации. В контексте вышесказанного следует отметить две Шоруньжинские стоянки, открытые
-
В. В. Никитиным в 1988 г., которые охарактеризованы им как памятники эпохи мезолита38.
Как показывают археологические изыскания последних лет, памятники периода мезолита занимают обширную территорию Урало-Поволжья. Так, К. Э. Истомин, рассматривая ареал бытования памятников камской мезолитической культуры, указывает, что он занимает бассейн Вятки, достигая на западе правобережья Волги (Долгополянское 2 местонахождение), его восточной границей являются западные склоны Уральского хребта, северной — Камско-Вятский водораздел, а на юге он охватывает долину р. Камы и приустьевые части ее левых притоков. Происхождение камской культуры К. Э. Истомин склонен связывать с зауральским субстратом, акцентируя при этом то, что памятники с аналогичным типом инвентаря (микролитическим), имеющим более древний облик, распространены в районах Среднего Зауралья и Западной Сибири39.
Следует, кстати, отметить, что определением этнической принадлежности Шоруньжинских стоянок никто не занимался. Вероятнее всего, они были стоянками самодийских племен. В пользу такого предположения свидетельствует прежде всего реликтовая гидролексема Уньжа (Унчо) , имеющая, как указано выше, аналогию в селькупском языке. Позднее самодийцы, видимо, были ассимилированы пермскими племенами. По существу эта версия подтверждается тополексемой Шор , ср. обще-перм. šor ‘ручей, поток, течение, река’. Диалекты удмуртского языка свидетельствуют о сужении общеперм. *o > u , ср. удм. šur ‘большая река; речка, ручеек’40 .
Сопоставление гидронима Уньжа (Унчо) с селькупским словом унджа ‘ручей, речка’ будет предельно ясным, если его подкрепить конкретными примерами, без претензий на исчерпанность и полноту охвата лексического материала, восходящего к достаточно глубокой древности марийского и селькупского языков. Причем масштаб сравниваемого материала из-за отсутствия письменных памятников и селькупских диалектизмов ограничивается словами литературных языков, имеющих сходный облик и равнозначную или близкую содержательную сторону. Для констатации лексических соответствий привлекается наиболее надежный сравнительногенетический материал. К числу таковых Г. А. Климов в своей книге «Основы лингвистической компаративистики»
Финно-угорский мир № 1
относит категории словаря, отражающие более или менее универсальные для человеческого общества понятия, составляющие так называемый основной лексический фонд — патронимику: обозначения явлений природы, названия элементов дикой флоры и фауны, личные местоимения, обозначения элементарных действий и т. п., кроме дескриптивной, т. е. звукоподражательной и звукосимволической, лексики и культурного словаря41.
Примеры:
|
Селькупские лексемы (приводятся по словарю С. И. Ирикова42) |
Марийские слова |
|
илы ‘жизнь’ |
илыш ‘жизнь’ |
|
сома илы ‘хорошая жизнь’ |
сай илыш ‘хорошая жизнь’ |
|
кун ила ‘где живет?’ |
кушто ила? ‘где живет?’ |
|
копы ‘кожа’ |
коваште ‘кожа’ |
|
отар а ‘кашлять’ |
кокыраш ‘каш- |
|
лять’ |
|
|
ошты ‘вредно’ |
коштан ‘злой, безжалостный, жестокий’; волж. |
|
‘вредный’ |
|
|
кэпы ‘тело’ |
кап ‘тело’ |
|
куннены? ‘откуда?’ |
кушеч(-ын )? ‘от- |
|
куда?’ кырый ‘раненый’ тый’ |
кыралтше ‘битый, изби- |
|
кыта ‘муравей’ |
кутко ‘муравей’ |
|
кэря ‘ворон’ |
корак ‘ворона’ |
|
амталты а ‘опрокинуть |
кумыкташ |
|
‘опрокинуть, (лодку, нарту)’ |
перевернуть вверх |
|
дном’, |
|
|
кумыкталташ ‘опрокинуться, перевернуться вверх дном’ элын ÿ р ‘рыбий жир’ |
кол ÿй ‘рыбий жир’ |
|
я ‘береза’ |
куэ ‘береза’ |
|
кярыс ‘коршун’ |
курныж ‘коршун’ |
|
лэ ‘кость, скелет’ |
лу ‘кость’ |
|
лыптык ‘ткань’ |
лачык ‘лоскуток ткани’ |
|
ме ‘мы’ |
ме ‘мы’ |
|
орса меркы ‘сильный ветер’ |
озыркан мардеж |
|
‘свирепый ветер’ |
|
|
пеляк ‘сторона’ |
вел ‘сторона’ |
|
пелне ‘в сто- |
|
|
роне’ по ‘дерево; дрова’ |
пу ‘дрова’ |
|
сичи ‘уголь’ сажа’ |
шÿч ‘копоть, |
|
сей ‘шея’ |
шÿй ‘шея’ |
|
турий ‘край (чего-либо)’ |
тÿр ‘край (чего-либо)’ |
|
тымты ‘здесь’ |
тыште ‘здесь’ |
|
туты ‘карась’ |
тото ‘линь’ |
|
чапа ‘капать’ |
чываш (волж.) ‘капать’. |
Исторически это слово восходит, видимо,
Языковая палитра к звукоподражанию.
Если анализировать марийский и селькупский языки в объеме всех их диалектов, то круг лексических соответствий можно значительно расширить. Однако даже самый беглый взгляд на вышеприведенные примеры не может исключить предположения об общем их происхождении.
Дополнительной иллюстрацией к данному положению служат результаты одонтологических обследований народов уральской расы. Так, по редукции гипоконуса на вторых молярах -hyr (3+3) N3 сближаются луговые мари (64,5), манси (67,7), селькупы (68,2) и саами Финляндии (69,9). У горных мари этот признак равен 60,2. По бугорку Карабелли на первых верхних молярах -cara (2-5) M1 горные мари (35,5) сближаются с манси (35,2), а луговые мари (46,7) — с удмуртами центральными (45,5). По шестибугорковым формам первых нижних моляров — M16 луговые мари (5,5) сближаются с хантами (6,2), коми-пермяками (6,4) и селькупами (6,4). По дистальному гребню тригонида (dtc) весьма близко друг к другу стоят горные мари (13,8), луговые мари (18,2) и селькупы (16,1). Коленчатая складка метаконида (dw) у горных мари — 26,3; саами Финляндии — 31,3; саами кольских — 32,7; луговых мари — 40,0; селькупов — 50,0. У остальных групп уральской популяции этот признак значительно ниже: у удмуртов — 14,8, манси — 17,1, хантов — 15,743.
Согласно предположениям И. И. Бунака, «одним из типов, вошедших в весьма давнее время в состав черемисского народа, был тот тип (уральский. — А. К. ), который до сих пор выступает в виде следов в ряду финских народностей и существует в достаточно чистом виде среди вогулов». «Из прочих типов,— подчеркивает в этой связи В. В. Бунак, — присутствие которых можно было бы подозревать среди черемис, на первом месте стоит так называемый тюркский, сильно брахицефальный, гипсицефальный, очень широколицый, коренастый, сильный тип, а также близкий к тюркскому в некоторых признаках самоедский тип»44.
Все это свидетельствует о сложных этногенетических процессах народов уральской расы. Поэтому совершенно неосновательно рассматривать созданную топонимическую систему Урало-Поволжья как результат творчества только лишь ныне проживающих там народов, игнорируя тем самым ее хронологические срезы и факты воздействия на ее формирование субстратных, суперстратных и иных явлений. Между тем этимолог, пренебрегающий общепризнанной хронологией реалий и понятий, не только не вносит определенную ясность в спорные вопросы этно- и глотогенеза уралоязычных народов Поволжья и Приуралья, но и создает значительную путаницу в их решении. На самом деле этимологическая интерпретация гидронимов Урало-Поволжья невозможна без широких диахронных и синхронных сопоставлений, без учета временных и пространственных рамок уральских языков.
значительном и многообразном по характеру материале, поэтому вопрос об их происхождении остается пока открытым.
Западная Сибирь
Буй , р., один из истоков р. Шакши, лев. приток р. Болгу — бассейн р. Лебеди.
Пуу , р., лев. приток р. Бии.
Ик , р., прав. приток р. Берди — Новосибирск. обл.
Ик Черный , р., лев. приток р. Тобол — Запад. Сиб.
Ик , р., лев. приток р. Оши — бассейн р. Иртыш.
При сопоставительном картографировании названных речных объектов Урало-Поволжья выясняется, что некоторые из них имеют параллели в Западной Сибири. Ниже приведены примеры таких гидронимов-двойников (в качестве иллюстрации приводятся названия средних и небольших речных объектов, взятые из различных источников).
Биография указанных гидронимов заслуживает специального лингвистического исследования на весьма
Урало-Поволжье
Буй , р., прав. приток р. Вятки — Кировск. обл., Марий Эл. Буй , р. в Уфимской провинции, впадает в р. Белую с правой стороны, другая — в р. Каму, выше р. Белой. Ср. мар. название р. Буй — Пу.
Ик , р., лев. приток р. Камы — Татарстан.
Ик , р., прав. приток р. Ая — Белокатайск. р-н Башкирии.
Ик , р., прав. приток р. Киги — Кигск. р-н Башкирии.
Ик , рч., прав. приток р. Яйвы — Пермск. обл.
См. также Ик , р., впадающая в озеро Зайсан, — Казахстан.
Икса , р., лев. приток р. Чаи — Томск. обл. Ир-Икса , р., прав. приток р. Большой Кокшаги — Марий
Икса , р., прав. приток р. Оби — Новосибирск. обл. Эл.
Икша , рч., лев. приток р. Ветлуги.
См. также Икса , р., лев. приток р. Тавды — Свердлов. обл. Икса , р. в бассейне Мезени.
Кинер , р., лев. приток р. Кондомы — Кемеровск. обл. Кинер , р. в Малмыжск. р-не Кировск. обл.
Кин р (Кинер), р. в Арск. р-не Татарстана.
Кукша , рч., лев. приток р. Томи.
Она , р., приток р. Уды — Селенги.
Она , р., прав. приток р. Абакан.
Кукша , рч., лев. приток р. Рутки.
Она , р., лев. приток р. Лаж — Марий Эл.
Она , р., лев. приток р. Немды — Марий Эл
Р. Бирюса (бассейн Ангары) в нижнем течении носит название Она . Ср. также Она , р., прав. приток р. Мезени.
Сума , р., приток р. Чулым.
Уса , р., прав. приток р. Томи.
Шегарка , р., лев. приток р. Оби.
Большая Шора , р., лев. приток р. Томи.
Малая Шора , р., лев. приток р. Большой Шоры.
Сумка , р., прав. приток р. Волги — Марий Эл.
Сумка , рч., приток р. Волги — Звениговск. р-н Марий Эл.
Уса , рч. — Мамадышск. уезд. Казанск. губ.
Шугарка , р., лев. приток р. Юшут — Марий Эл.
Шора , р., лев. приток р. Илети — Марий Эл, Татарстан.
Шора , р., прав. приток р. Юшут — Марий Эл.
Финно-угорский мир № 1
Список литературы Финно-угорский мир сквозь призму уральской топонимии
- Гумилев Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку, 1991. С. 102-103.
- Бромлей Ю. В. К типологизации этнических процессов//Проблемы типологии в этнографии. М., 1979. С. 5.
- Куклин А. Н. К вопросу об этимологизации Волго-Камского гидроформанта -га//Linguistica Uralica. Tallinn, 1995. 31, № 2. С. 86.
- Дульзон А. П. Древние смены народов на территории Томской области по данным топонимики//Учен. зап. Томск. гос. пед. ин-та. Сер. физ.-мат. и естеств.-геогр. наук. Томск, 1950. Т. 6. С. 175.
- Куклин А. Н. Угорские элементы в топонимии Марийской АССР//Congressus septimus Internationаlis Fenno-Ugristarum. 3 Sessiones sectionum, Linguistica. Debrecen, 1990. S. 118-123.
- Галкин И. С. Кто и почему так назвал: рассказы о географиче-ских названиях Марийского края. Йошкар-Ола, 1991.
- Европеусь Д. Кь вопросу о народахь, обитавшихь вь средней и сhверной Россiи до прибытiя славянь//Журналь Министерства народнаго просвhщения. СПб., 1868. Ч. 139. Jюль мhсяць. С. 58.
- Попов А. В. К вопросу о хорографии и палеоэтнографии Иркут-ской губернии//Очерки по землеведению и экономике Восточной Сибири. Иркутск, 1926. Т. 49, вып. 2. С. 131-132.
- Туркин А. И. Топонимика Севера России в трудах финно-угроведов ХIХ -начала ХХ вв.//История топонимики в СССР: тез. докл. М., 1967. С. 26.
- Попов А. В. К вопросу о хорографии.. С. 132.
- Европеусь Д. К вопросу о народахь.. С. 62.
- Мурзаев Э. М. Очерки топонимики. М., 1974. С. 191.
- Куклин А. Н. К вопросу об этимологизации гидронимов на -енга/-еньга//Linguistica Uralica. Tallinn, 1995. 31, № 3. С. 190.
- Дульзон А. П. Былое расселение кетов по данным топонимики//Вопросы географии: Географические названия. М., 1962. Сб. 58. С. 64.
- Жеребцов Л. Н. Историко-культурные взаимоотношения коми с соседними народами. X -начало XX в. М., 1982. С. 19-21.
- Матвеев А. К. Древнеуральская топонимика и ее происхождение//Вопросы археологии Урала. Вып. 1. Второе Урал. археол. совещ. при Урал. ун-те, 1-7 февраля 1961 г. Итоги и проблемы изучения археологии Урала. Свердловск, 1961. С. 135-136.
- Матвеев А. К. К вопросу о западных границах первоначального расселения манси по данным топонимии//Ономастика Европейского Севера СССР. Мурманск, 1982. С. 49.
- Kannisto A. Über die früheren Wohngebiete der Wogulen im Lichte der Ortsnamenforschung//Finnisch-Ugrische Forschungen. Helsinki, 1927. 18. S. 57-89.
- Теплоухов А. Ф. О происшедшей некогда смене угров пермяками на Верхней Каме, коми на Верхней Вычегде и удмуртами на Чепце//Учен. зап. Т. 12, вып. 1. Тр. Кам. археол. экспедиции. Пермь, 1960. Вып. 3. С. 81-112.
- Вишневский Б. Н. Следы угров на Западном Урале // Там же С. 155-169 ; Основы финно-угорского языкознания : Вопросы происхождения и развития финно-угорских языков. М., 1974. С. 275-277 ; Теплоухов А. Ф. Следы былого пребывания угорского народа в смежных частях Пермской и Вятской губерний и последующая смена его пермским и русским народами // Зап. Урал. о-ва любителей естествознания. Свердловск, 1924. Т. 39. С. 270-274.
- Микушев А. К. Историко-культурные взаимосвязи пермских народов//Историко-культурные связи пермских народов (по данным фольклора и языка). Ижевск, 1981. С. 7-8.
- Куклин А. Н. Угорские элементы в топонимии Марийской АССР. S. 120-123.
- Галкин И. С. Кто и почему так назвал. С. 146.
- Кузакова Е. А. Словарь манси (восточный диалект). М., 1994. С. 47.
- Куклин А. Н. К вопросу об этимологизации.. С. 96.
- Казанцев Д. Е. Формирование диалектов марийского языка (в связи с происхождением марийцев). Йошкар-Ола, 1985. С. 39.
- Основы финно-угорского языкознания. С. 417.
- Терентьев В. А. Ностратические этимологии//Этимология 1977. М., 1977. С. 160.
- Беккер Э. Г. О некоторых параллелях в гидронимии Европейского Севера и Западной Сибири//Языки и топонимия Сибири. Томск, 1970. Вып. 2. С. 16-18.
- Беккер Э. Г. О некоторых селькупских географических терминах//Там же. Вып. 3. С. 10.
- Казанцев Д. Е. Формирование диалектов марийского языка.. С. 39.
- Архипов Г. А. Происхождение марийского народа по археологическим данным (с I тыс. н. э.)//Происхождение марийского народа: материалы науч. сессии, проведенной Мар. науч.-исслед. ин-том языка, литературы и истории (23-25 декабря 1965 г.). Йошкар-Ола, 1967. С. 48.
- Архипов Г. А. Марийский край в памятниках археологии. Йошкар-Ола, 1976. С. 106.
- Иванова М. Г. Истоки удмуртского народа: учеб. пособие. Ижевск, 1994. С. 39.
- Никитин В. В., Соловьев Б. С. Атлас археологических памятников Марийской АССР: Эпоха камня и раннего металла. Йошкар-Ола, 1990. Вып. 1. С. 36-37, 200.
- Истомин К. Э. Новые мезолитические памятники в Нижнем Прикамье и некоторые вопросы изучения Волго-Камских мезолитических культур//Древние памятники приустьевого Закамья: материалы Новостроечной экспедиции М-ва культуры Республики Татарстан. Казань, 1993. Вып. 1. С. 15-17.
- Munkási B. A. A votjak nyelv szótáro. Lexicon linguae Votacorum (Wörterbuch des Votjakischen) (1890, bzw. 1896) (Reprint). Pécs, 1990. S. 503.
- Климов Г. А. Основы лингвистической компаративистики. М., 1990. С. 29-30.
- Ириков С. И. Словарь селькупско-русский и русско-селькуп-ский: пособие для учащихся. Л., 1988.
- Халдеева Н. И. Уральская раса по данным одонтологии//Материалы к антропологии уральской расы. Уфа, 1992. С. 35-36.
- Бунак В. В. Антропологический тип черемис (с 18 табл. и мног. рис.)//Рус. антропол. журн. М., 1924. Т. 13, вып. 3/4. С. 160-161.