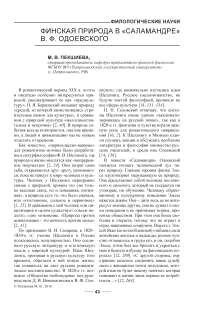Финская природа в «Саламандре» В. Ф. Одоевского
Автор: Пекшиева Марина Владимировна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 1, 2016 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются красота и могущество северной природы, а также ee влияние на характер человека в эпоху романтизма. Проводятся параллели с эпосом «Калевала».
Романтизм, природа, финляндия, лес, береза, водопад иматра, рыбак, наводнение, цивилизация
Короткий адрес: https://sciup.org/14723256
IDR: 14723256
Текст научной статьи Финская природа в «Саламандре» В. Ф. Одоевского
По признанию В. И. Сахарова, в 1820– 1830-е гг. учение Шеллинга в России пользовалось популярностью. Оно соединяло русскую литературу и эстетическую мысль с мировой культурой. Идеи Шеллинга, проникая в русскую культуру того времени, обретали в ней новую жизнь; так появилось на свет русское романтическое шеллингианство. В 1820-е гг. возникло «Общество любомудрия» под руководством Д. В. Веневитинова и В. Ф. Одо © Пекшиева М. В., 2016
евского, где внимательно изучались идеи Шеллинга. Русское шеллингианство, не будучи чистой философией, проникло во все сферы культуры [14, 131–134 ].
П. Н. Соловский отмечает, что система Шеллинга очень удачно «акклиматизировалась на русской почве», так как в 1820-е гг. фантазия и чувства играли важную роль для романтического направления [16, 2 ]. К Шеллингу в Мюнхен ездили слушать лекции и обсуждать проблемы литературы и философии множество русских писателей, и среди них Одоевский [14, 138 ].
В повести «Саламандра» Одоевский пытается познать человеческий дух через природу. Главная героиня финка Эль-са одухотворяет окружающую ее природу. Она представляет собой человека постоянного и сильного, который не поддается ни уговорам, ни обучению. Человеку образованному и культурному поведение Эльсы кажется диким. Она - дитя леса, ее не интересует мнение других, она не думает о своем поведении и не принимает нормы, принятые обществом. При этом она более свободна и открыта, потому что не играет в игры, навязанные социумом. Вместе с Эль-сой Якко (ее возлюбленный) «забывал свои житейские выгоды и надежды; родное чувство отзывалось в груди его, и он, подобно Эльсе, готов был все бросить и укрыться с нею в бедную избушку на финляндских порогах» [12, 269 ]. «С другой стороны, ему страшно казалось соединить навек судьбу свою с женщиною почти полудикою, которой язык не будет никому понятен, которая понимает в жизни лишь первые ее потребности…» [12, 264 ].
Как сообщает В. Кипарский, интерес к финнам у Одоевского пробудили публикации Я. К. Грота в журнале «Современник» в 1839 г., а также собственные наблюдения [24, 77 ]. Грот пишет, что финны живут на севере, поэтому они не избалованы природой, все время с нею борются. Живя в таком климате, человек часто уходит в себя, он не открыт природе [5, 102, 112 ]. Грот пересказывает русскому читателю «Калевалу», собранную Лённротом, которую Одоевский использует потом в своем произведении. Стоит отметить, что первая часть повести была почти сразу переведена на финский язык и напечатана в газете К. А. Готлунда «Суоми», о чем говорит Э. Г. Карху [6, 290 ]. Известно, что В. Г. Белинский по-разному оценивал «Саламандру», но описание реальной действительности ему нравилось [1, 118 ].
Повесть начинается с описания финской лесной избушки, в которой выросла Эльса. Например, в сказках герои часто растут в лесу и лес может быть отображением мира героя [3, 213 ]. По Д. Тресидде-ру, лес, с одной стороны, – символ опасностей бессознательного, с другой – образ убежища; в сказках и фольклоре лес – это место тайн; в древнем мире лес связан с идеей женского начала; азиатская традиция говорит, что в лесу «можно погрузиться в созерцание и духовное совершенствование» [17, 193–194 ].
Ю. И. Минералов сообщает, что П. Н. Сакулин, «современник русских символистов», интересовался проблемой символа у Одоевского и «внимательно анализировал его философско-эстетические воззрения» [10, 197 ]. По утверждению Одоевского, в природе нет ничего случайного: «в природе все есть метафора одно другого; жизнь растения есть метафора жизни человека, жизнь человека – метафора времени…» [10, 197 ].
Финляндия считается самой лесной страной в Европе, и для финнов природа – это прежде всего лес. Как отмечает Й. Паллас-маа, финны давно уже живут в современных городах, но картины, связанные с лесом, до сих пор живут у них в душе. Летом многие намеренно отказываются от всяче- ских удобств и возвращаются к древнему образу жизни лесного человека [25, 7].
Образ финского леса у Одоевского создают сосны, их свежие ветки. Огромные деревья стоят по берегам р. Вуоксы, они же падают в пучину водопада, к ним привязывают лодки, их же используют финны в качестве дров. Сосна считается «символом долголетия и бессмертия», это «самая древняя древесная порода», вечнозеленое дерево, мало подверженное гниению; если есть простор, сосна растет и на самой бедной почве [7, 468 ].
Находясь в Петербурге, Эльса поет о березе. Мы знаем, что русская береза – это «эмблема молодых женщин», «символ весны и девичества», березе также приписывается способность изгонять злых духов [17, 24 ]. В традиции народов Северной Европы береза – символ «перехода от зимы к весне, символ смерти и воскресения» [7, 77 ]. Береза считается шаманским деревом, она связывает небо и землю. С одной стороны, она оберегает от нечистой силы, с другой – является орудием нечистой силы. В народной поэзии девушку всегда сравнивают с березой и наоборот [7, 78 ].
В песнях Эльсы береза жалуется на свое одиночество. Береза – женский образ, она олицетворяет саму Эльсу. Когда девушке плохо, она обращается к герою финских преданий, славному Вяйнямейнену [12, 282 ]. Вяйнямейнен спрашивает березу, о чем та плачет, а Эльса ему отвечает словами из «Калевалы»:
Оттого весь век горюю, В одиночестве я плачу, Что беспомощна, забыта, Беззащитна я осталась, Здесь для встречи непогоды, Как зима приходит злая [8, 284 ].
Т. В. Муравьева отмечает, что береза у финнов считается священной наряду с рябиной и дубом [11, 253 ]. По П. Виртанену, береза – национальное дерево Финляндии, народная традиция также связывает ее с женственностью и невинностью [26, 53 ]. Из березы Вяйнямейнен в «Калевале» делает новое кантеле, тем самым дает ей новую жизнь, новый голос, новую песню:
Пышная, не плачь, береза, <…> Обретешь иное счастье, жизнь прекраснее получишь – будешь плакать ты от счастья, петь - от радости великой! [8, 496]
Скалы также являются источником вдохновения художников, поэтов и писателей. Скала - это «надежность, честность, прямота, прочность, стабильность, постоянство, сила» [17, 336 ]. Родина Эль-сы - скалистая земля. Финка удивляется тому, как русские строят в Петербурге дома: они вбивают сваи, и от этого земля стонет. « – Да зачем же, у нас на Вуоксе дома и без того строят? - Да на Вуоксе камень, а здесь земля не держит… – И земля здесь не держит! Все здесь не так, как надобно!» [12, 268 ].
Вода также почти всегда является атрибутом пейзажа. Вода - это «древний универсальный символ чистоты, плодородия и источник самой жизни», река, в свою очередь, – «символ уходящего времени и жизни», «важный символ постоянно восполняемого богатства природы, очищения и движения» [17, 304 ]. Иматрский водопад на Вуоксе - уникальная достопримечательность, созданная самой природой.
С. Хирн отмечает, что предки финнов относились уважительно к водопаду. Скорость стекающей воды, ее шум и разная картина прибоя давали свободу воображению. Иматру отождествляли с первоначальной, буйной силой и недоброжелательными природными явлениями. По берегам водопада очень долго не строилось никакого жилья, так как местность считалась дикой [23, 10 ]. Водопад Иматра описан в «Калевале»:
Есть три грозных водопада, <…> в Хяме есть падун Гремучий, в Карьяле порог есть Катра.
Нет проплывших через Вуоксу, Иматру перешагнувших [7, 38 ].
Об Иматре пишут русские поэты. У Е. А. Баратынского это - «поток седой», «дымная бездна» [18, 11], у А. А. Бестужева-Марлинского - «пенный ад», «губительный потоп» [18, 43], у Н. И. Филимонова водопад имеет «ужаснопленительный вид» [18, 54]. Иматру рису ют русские художники. Е. Г. Сойни описывает картины Н. Н. Дубовского, В. Кандинского, А. А. Рылова, у которых вода и волны водопада составляют важную часть полотна [15, 11, 64, 113]. В «Саламандре» Одоевского «Вуокса тиха и спокойна в своем течении; но беспрестанно скалы то ложатся поперек ее, то сжимают ее узкими берегами, и река кипит, бурлит, рвется к родному морю, ползет на утесы, бросает в воздух глыбами белой пены, подмывает огромные сосны; сосны падают в пучину, через минуту за версту от порога Ву-окса прибивает к берегу дребезги огромного дерева - и снова течет тихо и спокойно» [12, 245]. К. Фриландер в своей работе акцентирует внимание на том, что хотя в произведении Одоевского вместе с историческим изображением присутствует много мифического, описание Иматры, края, где происходит часть событий, дается очень реалистично [22, 17].
Находясь в Петербурге, в ассамблее Эльса видит картину с иматрским водопадом. «Вдруг глаза ее остановились на противоположной стенке; она смотрит: что-то знакомое... да, это берега Вуоксы, это пороги - над ними светит солнце - радуга играет в причудливых брызгах, – тут и родная избушка, и утес, к которому она прислонена... Не чудо ли это? Не какой ли тиетай перенес Эльсу на родимую землю...» [12, 271 ]. Картина сводит девушку с ума и вызывает припадок.
Фриландер поддает сомнению тот факт, что картина иматрского водопада могла украшать петербургский дворец в эпоху Петра I, как изображено у Одоевского в «Саламандре» [22, 18 ]. Одним из самых первых произведений, изображавших водопад, была работа, выполненная французом Яном Бальтазартом де ля Траверсом в 1787 г., который в 80-90-е гг. XVIII в. жил и работал в России [22, 21 ]. Следовательно, картина уже существовала при Одоевском, но еще не была написана в Петровское время.
Описывая в «Саламандре» финский водопад, реку с порогами, Одоевский замечает там ладью рыболова. Это лодка старика Руси. Он живет у бурной реки и каж-
® Финно – угорский мир. 2016. № 1 дый раз, добывая пропитание для семьи, рискует своей жизнью. «Привычными руками он взялся за весла, – видно было, что ему не впервые проводить свою лодку между опасными порогами» [12, 254 ]; «отважный, он вверялся родной реке и спокойно закидывал сети между клокочущими безднами» [12, 246 ]. И. Э. Эман пишет о финнах, что «они в своих ладьях смело подымаются и спускаются по стремительным водопадам» [19, 239 ].
О. Буле, исследуя тему Севера в русской романтической литературе, отмечает, что финский рыбак очень похож на благородного дикаря, который живет в полной гармонии с окружающим его миром. Вместо того чтобы использовать первозданную природу, как поступили бы праздные гости из Петербурга, он относится к ней с уважением, осознавая ее непредсказуемые стороны. Он, конечно, отважен, но не безрассуден, он никогда не будет недооценивать опасность [20, 231 ].
Если вновь обратиться к символам, то лодка для тех, кто живет у рек и морей, символизирует «средство перехода из материального мира в духовный», это «колыбель для душ, которые ждут возрождения» [17, 198 ]. Руси у Одоевского погибает в своей лодке вместе со шведом, которому старик мстит за смерть своего убитого шведами сына. «Швед взялся за мушкетон – но было уже поздно; лодку быстро втянуло в белую пену» [12, 254 ].
Как известно, Петру І было тр у дно воевать в Финляндии именно из-за природного ландшафта. Я. Гордин, обращаясь к событиям Северной войны, пишет о «дремучих лесах» и «холодных реках», пересекавших страну, а также о «многочисленных лесных озерах, болотах и оврагах», что «помогало обороняться и мешало наступать» [4, 123 ]. Заливы и бухты, а также множество маленьких островов создавали огромный лабиринт, в котором нельзя было использовать большие корабли [4, 123 ].
Й. Л. Рунеберг считает, что на природу можно смотреть с двух сторон. Есть места на планете, где природа покорена, она подносит народу дары, и народ выглядит благоденствующим. Но есть места, где можно увидеть «природу в первобытном ее блеске», там она «свободно развивает исполинские силы и смеется стараниям слабого племени» [13, 180]. Финляндия как раз богата такими картинами.
Интересно, что в произведении Одоевского не упоминаются озера, которых в Финляндии несколько тысяч, или болота, которые составляют третью часть страны. По сообщению П. Бонсдорфа, в финской литературе опасное болото, например, описано меньше, чем «зеленое золото» и вода [21, 47 ]. Зато у Одоевского есть Балтийское море, за которое борется Петр Великий. Море Д. Тресиддер определяет как «образ матери, даже более важный, чем земля», это «символ возрождения и превращения», а также «знак бесконечности познания» [17, 228 ].
В «Саламандре» мы два раза встречаемся с наводнением. Первый раз о нем рассказывает финская легенда. Шведский король договорился с морем, и оно «взбушевало, вылилось из берегов и всползло на кровли нового города» [12, 250 ]. Петру удается победить стихию. «Сильно ударил он жезлом по морю, и море смутилось, быстро потекло в берега и только в страхе обмывало царские ноги» [12, 250 ]. Второе наводнение случилось в Петербурге в ноябре 1722 г. «…рутцы напустили на вей-нелейсов море – все должно погибнуть; нет спасения…» [12, 286 ], – такими словами встречает наводнение Эльса. И опять в произведении фигурирует лодка: Эльсу спасает от наводнения финн Юссо.
Таким образом, в повести представлены две водные стихии. Первая – вода в водопаде, бурный, но мирный поток; он убивает только тех, кто неосторожен или пошел на смерть сам, как Руси. Вторая – наводнение, причем не в Финляндии, где природа дикая, но не мстительная, а в цивилизованном Петербурге или на море. Становится понятно, что с природой не договориться. В подобном случае, когда стихия разыгрывается, как у Одоевского в «Русских ночах» и «Насмешке мертвеца», А. Магалашвили называет ее палачом и судьей. Она карает цивилизацию, которая вошла в противоречие с природой [9, 3 ].
Как известно, Одоевский интересовался творчеством Новалиса, который в повести «Ученики в Саисе» описывает жизнь природы в глубине цивилизации. Так, если в классицизме считалось, что цивилизация подчиняет себе природу, то после промышленного переворота в Англии и революции во Франции вновь стало казаться, что «между цивилизацией и природой ничего не решено навечно» [2, 175–176]. До этого человек насильственно относился к природе, теперь целью являются примирение, желание найти любовь и взаимопонимание друг с другом [2, 176]. Стихия и город найдут равновесие и обретут гармонию в произведениях Одоевского (4338 год. Петербургские письма) позже, когда техника будет «поставлена на службу лю- дям» и природа будет внедрена в город в виде сада [9, 3].
Одоевский пишет в «Саламандре» о финнах. Описывая героев, невозможно оставить без внимания местность. Финский пейзаж романтического периода – это невозделанная природа: лес, скалы, вода. Там герои проводят свое детство. Береза является символом девичества, к ней обращается Эльса в минуты печали, находясь в Петербурге. Водопад Иматра может гордиться своим сильным потоком, привлекая путников. На нем расставляет свои сети финский рыбак. Наводнение – совсем другой поток, злая сила, карающая цивилизацию. Обращаясь к природе, Одоевский поднимает вопросы общего в природе и человеке.
Список литературы Финская природа в «Саламандре» В. Ф. Одоевского
- Белинский, В. Г. Сочинения князя В. Ф. Одоевского//Собрание сочинений: в 9 т./В. Г. Белинский. -Москва, 1981. -Т. 7. -С. 102-126.
- Берковский, Н. Я. Романтизм в Германии/Н. Я. Берковский. -Ленинград: Художественная литература, 1973. -568 с.
- Головин, С. Символика сказок/В. Бауэр, И. Дюмотц, С. Головин//Энциклопедия символов. -Москва: Крон-Пресс, 1998. -512 с.
- Гордин, Я. Пусть каждый исполнит свой долг/Я. Гордин. -Москва: Детская литература, 1979. -143 с.
- Грот, Я. К. О финнах и народной поэзии. 1840//Труды Я. К. Грота. Из скандинавского и финского мира. -Санкт-Петербург, 1898. -С 100-148.
- Карху, Э. Г. Финляндская литература и Россия, 1800-1850/Э. Г. Карху. -Таллинн: Эстгосиздат, 1962. -343 с.
- Куклев, В. Береза//Энциклопедия. Символы, знаки, эмблемы/авт.-сост.: В. Андреева, В. Куклев, А. Ровнер. -Москва, 2006. -556 с.
- Лённрот, Э. Калевала: эпическая поэма на основе древних карельских и финских народных песен/Э. Лённрот. -Петрозаводск: Карелия, 1998. -584 с.
- Магалашвили, А. Город князя Одоевского/А. Магалашвили//Невское время. -2002. -3 сент.
- Минералов, Ю. И. История русской литературы XIX века (1800-1830-е годы)/Ю. В. Минералов. -Москва: Высшая школа, 2007. -367 с.
- Муравьева, Т. В. Мифы славян и народов севера/Т. В. Муравьева. -Москва: Издательский дом «Вече», 2005. -416 c.
- Одоевский, В. Ф. Повести и рассказы/В. Ф. Одоевский -Москва: Художественная литература, 1988. -382 с.
- Рунеберг, Й. Л. О природе финляндской, о нравах и образе жизни народа во внутренности края. 1832/пер. Я. Грота//Рунеберг Й. Л. Избранное. -Санкт-Петербург, 2004. -С. 179-193.
- Сахаров, В. И. Страницы русского романтизма: книга статей/В. И. Сахаров. -Москва: Советская Россия, 1988. -352 с.
- Сойни, Е. Г. Финляндия в русском искусстве. 1890-2010/Е. Г. Сойни. -Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2013. -170 с.
- Соловский, П. Н. Князь В. Ф. Одоевский и его сочинения/П. Н. Соловский. -Чернигов: Губернская типография, 1884. -43 с.
- Тресиддер, Д. Словарь символов/Д. Тресиддер; пер. с англ. С. Палько. -Москва: Фаир-Пресс, 2001. -444 с.
- Финский альбом: Из русской поэзии начала XIX -начала XX века/сост. и авт. Т. С. Тихменева. -Ювяскюля, 1998. -332 с.
- Эман, И. Э. О национальном характере финнов//Альманах в память двухсотлетнего юбилея Александровского университета, изданный Я. К. Гротом. -Хельсинки, 1842. -С. 237-246.
- Boele, O. The North in Russian romantic literature/О. Boele. -Amsterdam, 1996. -304 p.
- Bonsdorff, P. Eletty ja mielletty maisema = Lived ja perceived landscape//Suomalaisten symbolit = The Finnish symbols. Toim. T. Halonen, L. Aro. -Jyväskylä: Atena Kustannus, 2005. -P. 44-48.
- Frilander, K. Venäläisten taiteilijoiden matkat Imatralle 1809-1917 . = The journeys of the Russian artsists to Imatra 1809-1917/K. Frilander. -Jyväskylän yliopisto, 2001. -S. 17. -Режим доступа: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/12000.
- Hirn, S. Imatran tarina = The story of Imatra/S. Hirn. -Imatra, 1978. -210 s.
- Kiparsky, V. Suomi Venäjän kirjallisuudessa = Finland in the Russian literature/V. Kiparsky. -Helsinki, 1945. -263 s.
- Pallasmaa, J. Esipuhe = Foreword//Bird T., Snitt I. Suomalaista elämäntapaa etsimässä = Looking for the Finnish way of life. -WSOY, 2005. -198 s.
- Virtanen, P. Metsä antaa mitä metsällä on = A forest gives what it has/P. Virtanen//Suomalaisten symbolit = The Finnish symbols. Toim. T. Halonen, L. Aro. -Jyväskylä: Atena Kustannus, 2005. -S. 49-53.