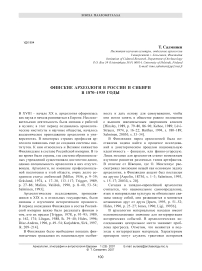Финские археологи в России и Сибири в 1870-1935 годы
Автор: Салминен Т.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Эпоха палеометалла
Статья в выпуске: 1 (29), 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14522566
IDR: 14522566 | УДК: 903.27
Текст статьи Финские археологи в России и Сибири в 1870-1935 годы
XIX–XX вв. расселения финнов на территории Финляндии. Без использования формулировок урало-алтайской теории Й.Р. Аспелину пришлось бы пойти вразрез с традицией М.А. Кастрена. По следующие годы показали, что трактовка этих данных Й.Р. Аспелиным оказалась ошибочной, но в то время она была в ряду возможных. Позднее, в 1950-х гг., ученые в Эстонии создали теорию переселения 5 тыс. л.н. предков эстонцев на южный берег Финского залива; как казалось, она основывалась на археологическом материале [Moora, 1956; Ligi, 1993a, б, 1994a, б; Tõnisson, 1994; Klejn, 1994].
Ранняя археология в Западной Европе и России
В Дании на рубеже XVIII–XIX вв. был основан национальный музей, для которого требовалось собрать археологические материалы. Научным основанием для его анализа стало разделение древней истории на три технологических периода. С середины XIX в. скандинавские методы распространились по всей Европе [Gräslund, 1974, s. 200, 204– 206; Klindt-Jensen, 1975, p. 46–87; Muurimäki, 1980, s. 19–20; Trigger, 1989, p. 74]. При изучении объектов материальной культуры европейские археологи применили и естественно-научные методы. В результате появились типологический метод и метод относительной хронологии, при помощи которых они обосновывали культурно-исторические интерпретации археологического материала. Разработка типологии артефактов в этот период была связана с музейной деятельностью [Montelius, 1891, s. 1–2; Gräslund, 1974, s. 200–218; Klindt-Jensen, 1975, p. 84, 136; Trigger, 1989, p. 155; Malmer, 1995, p. 20; Almgren 1995, p. 24–26].
После появления концепции О. Монтелиуса первым важным достижением европейской археологии стала идея культурных кругов. Корни этой идеи восходят к этнографии, влияние которой на археологию было велико (подробнее об этом см.: [Miller, 1956, p. 54; Klindt-Jensen, 1975, p. 97–115, 125–133; Kühn, 1976, S. 275–277; Trigger, 1978, p. 66–67; 1989, p. 163–167, 170 etc.]).
В Ро ссии в результате возрастающего интереса к славянским древностям были обнаружены хроники, в которых упоминались и финно-угорские народы. Таким образом, были созданы пред-по сылки для проведения учеными из Финляндии исследований в России. До XX в. ученых было немного, не было профессии археолога [Miller, 1956; p. 174–175; Формозов, 1986, с. 8–17, 20–34,
44–49; Trigger, 1989, p. 208–212; Оконникова, 2002, с. 38–48; Сафонов, 2004б, с. 57–61].
Археологией каменного века занимались преимущественно биологи, географы и геологи. Некоторые из них, например А.А. Штукенберг, Н.Ф. Высоцкий и Д.Н. Анучин, активно сотрудничали с финскими учеными. Особое значение для финской археологии имела работа, проводимая А.А. Иностранцевым и И.С. Поляковым; очень полезными оказались результаты, полученные А.С. Уваровым [Формозов, 1986, с. 62–68; Исследователи…, 2004, с. 58–59, 307; Сафонов, 2004a, б]. Ученые из Европейских стран имели возможность работать в России [Salminen, 2003б, s. 32–33; Формозов, 1986, c. 54].
Рождение финской археологии
Начиная с 1810-х гг. основной предпосылкой для появления археологии в Финляндии стал интерес к прошлому. В самом начале в задачи археологии входили сбор образцов народной поэзии и традиций, а также исторические исследования. Позднее романтизм стал политической программой, нацеленной на создание равных прав для финно- и шведоязычного населения, на поиск основ для национального самоопределения финнов. Одним из средств для этого стала история, в т.ч. древняя [Snellman, 1899; Castren L., 1944, s. 257– 266; Rommi, Pohls, 1989, s. 73–75; Jussila, 1989, s. 161; Hobsbawm, 1994; Virtanen, 2001, s. 64–75, 85–92, 96; Engman, 2001, s. 33]. В результате уже в 1860-х гг. удалось достичь некоторых из по ставленных целей. В 1863 г. император Александр II вынес постановление, уравняв финский и шведский языки в Великом княжестве Финляндском. Регулярно с 1863 г. работал финский парламент, предложивший другую возможность поддержать права финского языка. В частности, были созданы первые финноязычные средние школы [Juva, 1957, s. 330–331; 1961; Rommi, 1964, s. 29–31; 1986, s. 245; Kaarninen M., Kaarninen P., 2002, s. 70–73]. Отношение финнов к России было двойственным: они проявляли верно сть императору, однако не чувствовали внутренних связей с самой Россией [Jussila, 1989, s. 123–124; Rommi, Pohls, 1989, s. 69–72; Hobsbawm, 1994, s. 98–99, 117; Klinge, 1997, s. 353–363].
В Финляндии истоки интереса к археологии восходят преимущественно к эпохе Просвещения. Лингвистическое представление о финно-угорской группе народов появилось в 1770-х гг. Вслед за этим активно стали собирать образцы народной по- эзии. Первый вариант Калевалы был опубликован в 1835 г., второе издание вышло в свет в 1849 г. и т.д. А.И. Шегрен (1794–1855) работал в Российской академии наук в Санкт-Петербурге, собирая материал о финно-угорских народах. Тем не менее финноугорской археологии до 1860-х гг. не существовало [Tallgren, 1924b, s. 30–31, 38–41; 1936, s. 203– 204, 206; Nordman, 1968, p. 11–20; Lehtonen, 1972, s. 193–204; Branch, 1973, p. 24–27, 41, 208, 252–256, 262–263; Kokkonen, 1984].
Институционализация финской археологии началась с основания в 1870 г. Финского археологического общества. Оно стало первой организацией, которая смогла активно поддерживать развитие археологии в Финляндии. Закон об охране древ-но стей вышел в 1883 г., а спустя год появилась Археологическая комиссия [Tuominen, 1975, s. 10–19; Härö, 1984].
Ранние финские исследования в России
Финские ученые и археологи-любители еще в XVIII в. неоднократно совершали экспедиции в Россию, в частности в Сибирь. А.И. Шегрен, который привлекался Ро ссийской академией наук к изучению финно-угорских народов, был знаком с материалами ранних финских и других экспедиций [Aalto, 1971, p. 13–28; Stipa, 1990, s. 156– 158, 167–184; Branch, 1999, p. 123–127]. Он глубоко изучил историю и культуру финно-угорских народов. Его интерпретации и теории стали основой для работ М.А. Кастрена (1813–1852), а также повлияли на исследования венгерских ученых [Aalto, 1971, p. 28–29; Branch, 1999, p. 127–134].
Центральной фигурой исследовательской деятельности на востоке и развития ранней финской археологии в целом стал М.А. Кастрен. По его мнению, археология представляла собой доисторическую этнографию, а суть этнографии – в изучении расселения и классификации народов [Castrén М.А., 1857, s. 8; Aspelin, 1875b; Lehtonen, 1972, s. 200–203; Salminen, 1993, s. 14–17; 2003b, s. 38– 40]. М.А. Кастрен – первый финн, проводивший археологические раскопки в России в Минусинском округе в 1847 г., был лингвистом. Он отправился в экспедицию по заданию Российской академии наук. Научные организации в Финляндии появились несколько позже. Ученые поставили целью создать центр финских исследований в Финляндии [Branch, 1999, p. 133–136; Salminen, 2003a, s. 101–102].
Исследовательская деятельность в России, в частности в Сибири, стала центральным направле- нием в финской археологии в 1870-х гг. Основные ее составляющие – работа в музеях, покупка артефактов для финских музейных коллекций и про-веденние собственных археологических раскопок. С конца 1880-х гг. в связи с расшифровкой древних рунических надписей, найденных в Сибири и Монголии, большое значение приобрели лингвистические исследования. В артефактах старались выявить национальные корни финно-угорских народов. Так казалось возможным найти истоки финского этноса и проследить путь финнов в Финляндию. В начале XX в. эта идея потеряла актуальность, поскольку эти надписи оказались тюркскими [Salminen, 1998, 2003a; Anthony, 2001, p. 11–17, 29–30; Carpelan, 2001, p. 37; Carpelan, Parpola, 2001, p. 55; Francfort, 2001; Kuz’mina, 2001].
Первая археологическая экспедиция из Финляндии в Россию состоялась в 1871 г.
Научная деятельность Й.Р. Аспелина
Й.Р. Аспелин был историком, изучал средневековье. Он нашел русские хроники, в которых говорилось о прошлом финнов. Археология стала основным его занятием приблизительно в 1869 г. Й.Р. Аспелин являлся одним из основателей Финского археологического общества [Tallgren, 1920; 1936, s. 208–210; Salminen, 1993, s. 50; 1996; 2003a, s. 102–104; 2003b, s. 43–44, 97; Jaanits, 1995, lk. 9–18]. Идеи Й.Р. Аспелина были созвучны идеям раннего романтизма. Используя методы скандинавской археологии, он пытался найти предполагаемых предков финнов и проследить их передвижения от первоначальных мест обитания до современных территорий проживания [Aspelin, 1875b, s. 1–2; Tallgren, 1936, s. 219–220; 1937; 1944, s. 71–73; Nordman, 1968, p. 20–21; Salminen, 1992; 1993, s. 14–17]. Й.Р. Аспелин хотел показать самим финнам, русским и всему миру, что у предков финского народа есть древняя культура и историческое прошлое. Благодаря эпической поэме Калевала, о финнах узнали другие европейские народы, однако их история оставалась им неизвестной [Aspelin, 1872; Tallgren, 1936, s. 220; Wahle, 1950, S. 95; Salminen, 2003b, s. 44]. В 1869 и 1871 гг. Й.Р. Аспелин совершил исследовательские поездки в Швецию, затем в Россию, где изучал различные музейные коллекции и проводил раскопки [Tallgren, 1937, s. 93–97; Salminen, 1996, lk. 43; 2003б, s. 44]. Он также занимался изучением русской литературы в Московском университете под руководством проф. Ф. Буслаева. К октябрю
1872 г. Й. Р. Аспелин получил общее представление о древней истории финского народа [Salminen, 2003б, s. 53–55].
Еще один финский ученый в том же году проводил раскопки в России, частично сотрудничая с Й.Р. Аспелиным. Им был Д. Европеус (1820–1884), поначалу лингвист, для которого археология являлась в основном средством поиска подтверждений лингвистических теорий. Источниками для него служили топонимы, а также физическая антропология, преимущественно краниология. Д. Европеус во многом был не согласен с выводами Й.Р. Аспе-лина [Pál Hunfalvy ja suomalaiset…, 1987, s. 16–25; Halila, 1988, s. 12–13; Lehikoinen, 1988, s. 113–116; Edgren, 1988, s. 128–129]. По мнению Д. Европеу-са, проф. А. Альквист и акад. А. Шифнер неверно представили результаты исследований М.А. Каст-рена. Он посчитал своей обязанностью уточнить их интерпретации [Salminen, 2003б, s. 48].
В 1874 г. Й.Р. Аспелин изложил перед Финским археологическим обществом план создания в Хельсинки Финно-угорского центрального музея. Он считал Финляндию самым подходящим местом для археологического музея финно-угорских народов, к тому же в Хельсинки уже имелись археологические коллекции, найденные за пределами страны. Задачи, стоявшие перед сравнительной археологией, требовали пополнения этих коллекций [Suomen Muinaismuistoyhdistyksen pöytäkirjat, 1909, s. 291–292].
Й.Р. Аспелин защитил диссертацию в феврале 1876 г. Его наиболее значимые научные интерпретации прошлого касались бронзового века. Й.Р. Ас-пелин предположил распространение цивилизации бронзового века с Алтая на Урал и в Во сточную Европу, где она получила продолжение в ананьинской культуре, которую он связал с финно-угорскими культурами позднего железного века. Таким образом, частично следуя языковой теории М.А. Каст-рена, Й.Р. Аспелин пришел к убеждению, что нашел корни финнов на Алтае и проследил их перемещение по Европе.
В мае 1876 г. Й.Р. Аспелин предложил другой проект – рассчитанную на четыре года программу археологических исследований финских ученых в России. Предполагалось, что Финно-угорский центральный музей получит обширные коллекции и возможно сть представить материалы, хранящиеся в других музеях. Исследования, которые планировалось начать с Польши и Прибалтики, должны были охватить территорию как минимум до восточных склонов Уральских гор, а возможно, до Оби и Алтая. Одна из наиболее важных задач – научиться разграничивать “финно-угорский, сла- вянский и готский” типы артефактов. Необходимо было прояснить также взаимосвязь между культурами бронзового века Урала и Алтая и более молодыми памятниками финно-угорских народов. Й.Р. Аспелин наметил план обширной исследовательской деятельности в России еще в 1872 г.; эта программа стала продолжением его первого проекта [Aspelin, 1875a; Suomen Muinaismuistoyhdistyksen pöytäkirjat, 1915, s. 19–21; Tallgren, 1916, s. 273– 275; Lehtonen, 1972, s. 205; Niiranen, 1987, s. 43]. Для осуществления грандиозных замыслов в распоряжении Й.Р. Аспелина было не очень много людей, к тому же финская археология и охрана древностей требовали все больше внимания. Воплотить задуманное можно было лишь частично. Наиболее важные экспедиции были отправлены на Волгу в 1883 и 1884 гг., в окрестности Минусинска – в 1887–1889 гг. (с целью изучения надписей) и на Урал – в 1893 г.
Й.Р. Аспелин считал, что ученые Финляндии имеют право на изучение древней истории финноугорских народов на всей территории их расселения. Участники первой экспедиции на Енисей в 1887 г., по его выражению, подняли флаг финской науки в Сибири. Й.Р. Аспелин не раз высказывал мысль о землях, “завоеванных” финской наукой [Suomen Muinaismuistoyhdistyksen pöytäkirjat, 1909, p. 291–292; Salminen 2003б, s. 63–65, 80]. Эта идея декларировалась вплоть до 1920-х гг., но реально до появления в 1917 г. статьи А.М. Таль-грена “Вклад Финляндии в развитие азиатской археологии” крупных исследовательских планов не было [Tallgren, 1917].
Традиция, начало которой положил Й.Р. Ас-пелин, получила продолжение в исследованиях А.О. Гейкеля (1851–1924), Я. Аппельгрена-Кивало (1853–1937), Ю. Айлио (1872–1933) и А.М. Таль-грена (1885–1945). А.О.К. Гейкель и Я. Аппель-грен-Кивало издали материалы экспедиции Й.Р. Ас-пелина в Южную Сибирь [Helkel, 1912; Appelgren-Kivalo, 1931].
Идея земель “научных завоеваний” в начале XX века
В последние годы присутствия Финляндии в составе Российской империи уже научные сообщества активно не занимались финно-угорской археологией, она опять стала областью частных интересов отдельных ученых, почти как в начале 1870-х гг.
А.М. Тальгрен наметил новые задачи для финской археологии. Финский национальный музей в какой-то мере стал центральным финно-угорским музеем, как и хотел Й.Р. Аспелин. Впрочем, выразилось это лишь в появлении отделов, посвященных каменному веку Олонца и бронзовому веку Центральной России. А.М. Тальгрен предсказывал, что Азия станет континентом будущего в сфере независимой экономики и государственности, но ее время как объекта научных исследований уже началось. Ученые Финляндии должны были следовать по пути М.А. Кастрена и Й.Р. Аспели-на, но более широко рассматривать этнокультурную проблематику. Истоки финского этноса предстояло искать главным образом в Центральной Азии. Поиск планировалось начать в Российском Туркестане и Иране. Собранная там информация могла пролить свет и на доисторическое прошлое финно-угорского населения Северной России. Обширные территории до Енисея уже стали землями “научных завоеваний” для финской археологии [Tallgren, 1916, s. 275; 1917].
По мнению А.М. Тальгрена, задачи финских исследователей не были привязаны к изучению какой-либо конкретной нации или племени. Их реализация внесла вклад в финскую археологию; по существу они были интернациональными. Национальные и интернациональные направления исследований должны были развиваться одними темпами. Фактически, это было ясно уже Й.Р. Аспелину, но в его годы при определении научных целей преобладали идеологические установки, а во времена А.М. Таль-грена определяющими стали сами археологические проблемы.
Отличались и конкретные задачи, которые необходимо было решать. Ученых интересовал вопрос: как возник фатьяновский культурный комплекс – появилась ли культура непосредственно в Центральной России или пришла туда с запада? Если она исконно индоевропейская, то тогда с ней связана культура боевых топоров. Данный вопрос затрагивался в диссертации А.М. Тальгрена и позднее изучался им самим и A. Эйряпя (1887–1971) [Tallgren, 1919, s. 3–7; Äyräpää, 1933, S. 16–23, 49–53, 88–89, 96–109, 149–154]. Каков же общий источник уральских и алтайских культур бронзового века? Он, возможно, находился где-то между территориями Китая и Венгрии, но особый интерес представляли степи Туркестана. Решение этой проблемы было слишком сложным для археологов Финляндии [Tallgren, 1919, s. 7–8]. Если говорить о железном веке, то, по мнению А.М. Тальгрена, наибольший интерес представляла торговля между Индией и Пермским краем. Все еще не было изучено должным образом алтайское влияние на искусство Сибири и скандинавскую культуру в России. Особый интерес представляли также ре- лигии населения Пермского края. Чтобы получить новые результаты, необходимо было объединить археологические, фольклорные, лингвистические и исторические исследования [Ibid, s. 9–16; Kivikoski, 1954, p. 131–140].
Сам А.М. Тальгрен в ряде статей обсуждал связи культур железного века Европы и Азии. По сравнению с Й.Р. Аспелиным, который, в первую очередь занимался этнической проблемматикой, он изучал общие культурно-исторические вопросы [Tallgren, 1924a, 1925]. В 1920-х гг. А.М. Тальг-рен планировал силами университетов Хельсинки и Тарту проводить археологические исследования в России. Предполагалось, что эстонские ученые будут заниматься изучением древней истории Ливонии, Ингрии и более отдаленных российских территорий вплоть до р. Оки, а финские – проводить исследования в Сибири, Центральной Азии, степях на юге России и в российской Карелии. Эти планы касались не только археологии, но и этнографии. И. Маннинен (1894–1935) – директор Эстонского национального музея – вел активную деятельность на востоке. Эстонские археологи Х. Моора (1900–1968) и Э. Лайд (1904–1961) проявили интерес к России, но не достигли значительных результатов [Tallgren, 1924б, s. 24; Moora, 1932, lk. 29; Linnus, 1995a, lk. 39; 1995б, lk. 93–94; 1995в; Jaanits, 1995, lk. 14].
В конце 1917 г. и последующих годов события, связанные с революцией в России, помешали осуществлению этих планов, кроме того, отношения между двумя странами в 1920–1940-х гг. не были благоприятными для научного сотрудничества. Этнографы и лингвисты, занимавшиеся финно-угорской проблематикой, пытались синтезировать полученные ранее результаты [Lehtonen, 1972, s. 222– 228; Vuorela, 1977, s. 50–51, 58–59; Louheranta, 2006, s. 191–193, 267].
“Eurasia Septentrionalis Antiqua”
Еще в 1910-х гг. А.М. Тальгрен задумал издание научной серии по российской археологии. Она начала выходить в середине 1920-х гг. под названием “Eurasia Septentrionalis Antiqua” (ESA). Создание серии ESA было частью плана А.М. Тальгрена поднять авторитет финских археологических исследований, сделав их более интернационально ориентированными ученый даже предпринял попытку убедить шведского археолога Т.Й. Арне стать вторым редактором этой серии.
А.М. Тальгрен стремился организовать издание трудов по археологии под эгидой Финского археоло- гического общества. В 1910-х и начале 1920-х гг. экономическое положение общества было плачевным, и реальной помощи оно оказать не могло. В 1924 г. А.М. Тальгрен и профессор этнографии У.Т. Сире-лиус (1872–1929) предложили новообразованным академическим кафедрам археологии и этнографии предоставлять материалы для публикаций. По их мнению, в Европе именно финские ученые должны были сыграть ведущую роль в археологических исследованиях Евразии. Единственными их конкурентами могли стать поляки, но они были сосредоточены на организации научной жизни в своей стране. Решение о создании серии ESA было принято в октябре 1926 г. [Kokkonen, 1994; Salminen, 2003б, s. 145–146].
Вследствие проводимой Сталиным политики возможно сти финских ученых издавать труды по российской археологии с каждым годом уменьшались. А.М. Тальгрен в условиях ограничения контактов Советского Союза с зарубежными странами, а также из-за высказанного им протеста по поводу ареста академика С.А. Жебелева в 1928 г. и репрессий в отношении советских археологов в 1935 г. уже более не мог получать новые материалы [Kivikoski, 1960, p. 63–64; Laitila, 1997]. Была и другая причина: древняя история Финляндии требовала все больше внимания и молодые археологи сосредоточили усилия на ее изучении, что не позволяло им заниматься крупномасштабными проблемами азиатской доистории. Советские ученые хотели сотрудничать с финскими коллегами, но были вынуждены отклонять их предложения, по скольку в СССР финская археология считалась служанкой буржуазно-националистической идеологии. Критические статьи А.М. Тальгрена вызвали негативную реакцию у некоторых советских ученых, таких как М . Худяков, В . Гольмстен и С . Быковский. М. Пальвадре обвинил Финское литературное общество, Финское археологическое общество, Финно-угорское общество и Финскую академию наук в сотрудничестве с крайним правым политическим движением Финляндии. Очевидно, что эти нападки были частью идеологической войны [Ailio, 1913; Tallgren, 1913, 1935; Худяков, 1931, 1934; Гольмстен, 1932; Быковский, 1932; Паль-вадре, 1931; Кутяшов, 1931].
Пока советские археологи могли сотрудничать с зарубежными коллегами, ситуация с серией ESA оставалась стабильной. Усиление авториторизма в СССР подорвало это сотрудничество. Никакого смысла продолжать выпуск ESA больше не было [Miller, 1956, p. 56–57, 93; Salminen, 2003b, s. 146].
Периодизация изучения финскими исследователями археологических памятников в России
Финские археологические исследования в России можно разделить на четыре периода и переходные стадии.
В первый период исследования проводились по инициативе и при поддержке ро ссийских учреждений. Самым значительным примером была длительная экспедиция М.А. Кастрена в Сибирь в 1845–1849 гг. Финские научные организации были не настолько развиты, чтобы руководить работой такого масштаба. Скандинавские археологические методы не были хорошо известны в Финляндии, и финские ученые еще не могли сами интерпретировать найденные материалы; это стало возможным только через 30 лет.
Второй период начался ок. 1870 г., когда финны стали по собственной инициативе проводить археологические исследования на востоке. Появление сравнительно-типологического метода открыло перед археологами новые возможности поиска ответов на свои вопросы. Перед археологией можно было ставить крупные задачи. Наука оказалась тесно связана с идеологией финского национального движения “Fennomania”, которо е ставило научные проблемы и определяло целые направления в науке. Конкретной задачей было учредить центральный Музей финно-угроведения в Хельсинки.
Полевые работы в России проводились в 1872– 1874 и 1883–1891 гг. Одновременно велись небольшие научные исследования в Прибалтике и других соседних регионах. В результате, расширения поля деятельно сти удалось установить, что многие древние материалы, которые ранее считались финскими, были тюркскими. В рамках третьего периода выделилось археологическое направление, оно опиралось на предшествующие традиции, но уже не имело цели “раскрыть величественную картину древней истории финского народа”. Второе направление было лингвистическое.
Третий период длился со времени подготовки путешествия А.О. Гейкеля на Урал в начале 1890-х гг. до завершения раскопок в Туркестане (1897–1899). В это время начали обсуждаться принципы и цели финской археологии на востоке. У археологов не было ясного представления о том, чем им следует заниматься дальше. Древняя история Финляндии вызывала все больший интерес, а сохранение финских древностей требовало все больше усилий. Возможности же для продолжения работы на востоке были меньше. Тем не менее в эти годы в Хельсинки была привезена первая зна- чительная русская коллекция М.С. Знаменского из Ильинска (близ Тобольска). Период национального пробуждения закончился на рубеже веков, когда финнам пришлось обратить особое внимание на защиту своих конституционных прав и собственной культуры. Поэтому приоритет отдавался изучению древней истории собственной страны, а не финно-угорских народов в целом. Вклад финских археологов в изучении российской древней истории очевиден. В XIX столетии 11 финских археологов путешествовали по России (1871–1874, 1887–1891, 1893, 1896–1899 гг.), в XX в. лишь два – А.М. Тальгрен и ездивший с ним однажды Н. Клеве (1908, 1909, 1915, 1917, 1924, 1925, 1928, 1935 и 1936 гг.). Кроме того, под руководством С. Пяльси (1882–1965) и Й.Г. Гранэ (1882–1956) были совершены два путешествия в Монголию, в 1917 г. состоялась этнографическая экспедиция С. Пяльси на Российский Дальний Восток.
Четвертый период финской археологии в России начался в 1908 г., когда А.М. Тальгрен совершил свою первую поездку на восток. В это время внимание акцентировалось на новых трактовках культур бронзового века Евразии и взаимосвязи между населением Урала и Алтая, а также населением на изучении древностей на территории Финляндии. Трудно сти с определением истоков финского народа привели А.М. Тальгрена к необходимо сти изучения древней истории России. После получения независимо сти Финляндия вошла в культурное пространство западной цивилизации. Важным фактором здесь было существование серии ESA. А.М. Тальгрен придал новый импульс исследованиям на землях “научных завоеваний финских ученых”. Раскопки проводились в 1909 и 1915 гг. Наиболее важными приобретениями стали две коллекции древностей – купцов В.И. За-усайлова из Казани (в 1909 г.) и И.П. Товостина из Минусинска (в 1916 г.). Период деятельности А.М. Тальгрена был наиболее плодотворным в плане публикаций за всю историю финских археологических исследований в России; изданные работы получали более широкое распространение, чем прежде [Salminen, 2002].
В 1917 г. Финляндия стала независимым государством, в Хельсинки завершилось создание Финно-угорского центрального музея, но исследовательская деятельность в России не закончилась. Она прекратилась лишь в 1930-х гг. с началом сталинской политики изоляции. В Финляндии формировались благоприятные условия для развития национальной науки. Исследования финских археологов на территории России прекратились уже на рубеже XX в. По сле появления новой советской археологии финны утратили интерес к “научным завоеваниям” на востоке и стали стремиться к сотрудничеству с равноправным партнером.