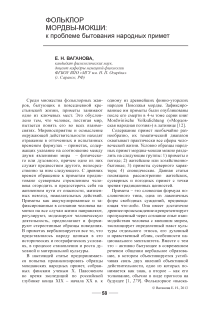Фольклор мордвы-мокши: к проблеме бытования народных примет
Автор: Ваганова Елена Николаевна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Сокровищница традиционной культуры
Статья в выпуске: 3, 2013 года.
Бесплатный доступ
На материале народных примет рассматриваются традиционные ценностные представления и жизненные ориентиры, касающиеся разных сторон жизни мордвы-мокши: быта, семейных отношений, социокультурных норм, религиозных ритуалов, календарной обрядности.
Примета, традиция, фольклор, язык жанра, народные фенологические наблюдения
Короткий адрес: https://sciup.org/14723010
IDR: 14723010
Текст научной статьи Фольклор мордвы-мокши: к проблеме бытования народных примет
Среди множества фольклорных жанров, бытующих в повседневной крестьянской жизни, приметы занимают одно из ключевых мест. Это обусловлено тем, что человек, постигая мир, пытается понять его во всех взаимосвязях. Мировосприятие и осмысление окружающей действительности находят отражение в отточенных и испытанных временем формулах – приметах, содержащих указание на соотношение между двумя явлениями мира – физического или духовного, причем одно из них служит предвестием другого, непосредственно за ним следующего. С древних времен обращение к приметам продиктовано суеверным стремлением человека огородить и предостеречь себя на жизненном пути от опасности, жизненных невзгод, нежелательных действий. Приметы как аккумулированные и зафиксированные в сознании человека памятки на все случаи жизни направляют, регулируют, моделируют человеческую деятельность, предполагают и формируют стереотипные образцы поведения. В приметах вербализируется все то, что представлялось народу ценным в его исторических и географических условиях, в процессе становления и роста духовной и материальной культуры.
В настоящей статье предпринимается попытка проанализировать образцы мокшанских народных примет, собранных финским ученым Х. Паасоненом во время экспедиций по российской глубинке конца XIX – начала XX в. к одному из древнейших финно-угорских народов Поволжья мордве. Зафиксированные им приметы были опубликованы после его смерти в 4-м томе серии книг Mordwinische Volksdichtung («Мордовская народная поэзия») в латинице [12].
Содержание примет необычайно разнообразно, их тематический диапазон охватывает практически все сферы человеческой жизни. Условно образцы народных примет мордвы-мокши можно разделить на следующие группы: 1) приметы о погоде; 2) житейские или хозяйственнобытовые; 3) приметы суеверного характера; 4) сновидческие. Данная статья посвящена рассмотрению житейских, суеверных и погодных примет с точки зрения традиционных ценностей.
Примета – это словесная формула пословичного типа, одна из лаконичных форм свободных суждений, предвещающая что-либо. Она имеет достаточно древнее происхождение и репрезентирует пропущенный через сознание опыт взаимодействия человека с внешним миром, эксплицирует определенный пласт культуры отдельного этноса, его духовный и нравственный облик, особенности национального менталитета. Вместе с тем это – активно бытующее в современном речевом общении вербальное образование, в котором объективируется устойчивая связь двух явлений объективной действительности, одно из которых понимается как знак, а второе – как его толкование, обычно в виде прогноза на будущее [1, 279 ]. Фольклорное «выска-
зывание» в виде примет имеет знаковую природу, а сама структура рассматривается как структура знака. Человек, воспринимающий то или иное событие как примету, интерпретирует его как знак некоторого другого события, как добрый или недобрый знак для начала какого-либо дела.
Народные приметы представляют уникальный пласт паремиологическо-го фонда языка. Они определяются отечественными учеными как клишированные изречения с доминантной прогностической функцией, суть которых – в предсказании будущего [2, 249 ; 7, 256 ; 8, 294 ]. Следует заметить, что прогнозируют всегда лишь вероятность наступления события, поэтому прогнозы могут быть и верными, и неверными. Более того, ситуация, параметр которой прогнозируется, не может возникать по воле человека: она относится к природной или общественной жизни и является стихийной [5, 177 ].
Говоря о жанровой вариативности устно-поэтической речи, А. Н. Веселовский подчеркнул, что устный язык поэзии так же разнообразен, как многообразны и создаваемые при его помощи фольклорные образы, что единство его относительно [4]. Поскольку язык устной поэзии достаточно строго дифференцирован в жанровом отношении, то соответственно и примета имеет свои специфические особенности, отлича-ющие ее от других малых форм необрядового фольклора.
Слово «примета» в бытовой речи может употребляться в двух противоположных значениях: как «суеверие» и как «верное» наблюдение. В них обнаруживается сложное переплетение рационального и иррационального. Они выработаны коллективным творчеством народа в ходе эмпирических наблюдений, давших возможность подметить закономерности и причинно-следственные связи. Однако существуют и такие суеверные приметы, которые не поддаются «причинному» истолкованию.
Приметы отличаются от поверий – кратких изречений, служащих отраже- нием пережитков ранних форм религий человека и сохранившихся реликтов сознания древнего человека, его мифологического мироощущения. Приметами чаще всего называют «естественные», а поверьями – «суеверные» предзнаменования [11, 11]. Являясь неотъемлемой частью устного народного творчества, приметы сосредоточены на передаче прямого смысла в отличие от пословицы, построенной на иносказании. Они характеризуются высокой формально-смысловой организацией, обусловливающей употребление таких способов эстетического построения текста приметы, как ритм, рифма. По своей природе приметы относительно гибки, поскольку постоянно приспосабливаются к новым обстоятельствам жизни, соответствуют определенному типу жизнедеятельности и отражают творческую активность общества.
Народные приметы определяются отечественными учеными как клишированные изречения с доминантной прогностической функцией, суть которых – в предсказании будущего.
Основная структурная особенность приметы заключается в том, что она в идеале состоит из двух пропозиций: данное (наблюдаемое) положение дел А соотносится с более или менее конкретным и значительным положением дел Б в будущем [9, 187 ]. Приведем в качестве иллюстрации следующие приметы: ĺшkšä· v́id́əmsta ftalu af vanəndi̜št́ (f-), ĺшkšä·ś af ĺiśi «Во время посева гречихи назад не оглядываются – гречиха не взойдет» [12, 727 ]; v́id́i poksnən laŋks af madəndi̜št́, ańgəlćä avaŕd́i «На правый бок не ложатся, ангел плачет» [12, 720 ]. По убеждению крестьян, за правым плечом человека стоит добрый ангел, а за левым – злой черт. По суеверию, ложиться следует на левый бок, чтобы не придавить правым плечом ангела-хранителя. Бинарность считается одной из важнейших мифо-
Финно – угорский мир. 2013. № 3 логических, языковых, фольклорных и ментальных универсалий, в вышеприведенном примере представлена одна из семантических оппозиций: левый – правый.
Приметами чаще всего называют «естественные», а поверьями – «суеверные» предзнаменования.
Приметы имеют, как правило, традиционную внутреннюю структуру, конец и начало связаны друг с другом импли-кативными отношениями причины и следствия, условия и следствия. За этой причинно-следственной рамкой стоит отношение логической обусловленности если А , то B . В реальной действительности практически нет таких явлений, которые не были бы обусловлены чем-то другим, или не зависели бы от чего-то другого, или не являлись бы сами условием для другого. Обусловленность служит универсальным отражением объективной действительности.
Примета имеет форму простого или сложного предложения и выражает законченную мысль. В простом предложении в большинстве случаев вторая часть выступает в роли второстепенного члена предложения: kutś čakad́i af pars «В доме слышишь стук – не к добру» [12, 713]; śakańasta jamś ĺiśi af pars «Выплескивается суп из горшка – не к добру» [12, 714]. В первой части сложного предложения содержится наблюдение, причина, во второй – следствие, результат, вывод: šävsta sarda praj, ḱeŋkšt́ ṕäĺi v́eĺäj, śä kucta kuli̜ uĺi «С лучины щепка отлетит в сторону – в доме будет покойник» [12, 712]; jäšińät́i kaźńət́ joŕäšt́ štoba šumbra· ši maksəza «В родник бросают дары, чтобы здоровье было» [12, 710]; cavkatna nalckist pizam tuji «Галки резвятся – дождь пойдет» [12, 715]; roź uskəmsta (paśĺe·dnaj) krandazś af ṕäšḱədí, omba ḱəzńä· śorəś af šači «Последняя телега не наполнится рожью – в следующем году зерно не уродится» [12, 713]. Встречаются приметы, в кото- рых обе части представляют собой простые предложения: kuc(a) af v́ešḱəńd́išt́, ḱeldat šačiχ́t́ «Дома не свистят – клопы заведутся» [12, 718].
Активному использованию жанра примет в крестьянской жизни способствовали сложные природно-климатические условия ведения земледельческого хозяйства, тяжелые бытовые условия жизни, суеверия. Погодные приметы – это своего рода народные метеорологические знания, или этнометеорология. Пытливый человеческий разум стремился объяснить независимые от его деятельности явления природы и бытия, сформулировать законы самоорганизации природы. Широко известны приметы: kuĺi t́äšttńä ṕäḱ kərfa·št́, t́alənda jakšafti̜ «Если звезды мерцают ярко – к холодной зиме» [12, 711 ]; sarat pa^kisi, talande jaksafti, ḱizənda· mańəńdi «Заря горит – зимой похолодает, летом – к ясной погоде» [12, 715 ]; at́amś rana tunda· toraj, ḱizəś ćeb́äŕ uĺi «Гром гремит ранней весной – лето будет хорошее» [12, 716 ]; śokśənda kurək lovś praj, tunda· af kurək solaj· «Рано осенью снег выпадет – весной не скоро растает» [12, 723 ]; šiś ĺiśəmd́ənzä meĺä ḱäši, ṕiźəm tuj· «Солнце после восхода зайдет за тучи – дождь пойдет» [12, 724 ]; at́am joŋks śimi, ṕiźəm tuji «Радуга “пьет” – к дождю» [12, 728 ].
Специфическая особенность наблюдений выражается в том, что чаще всего предсказывается не характер предстоящей погоды, а ее влияние на хозяйственную деятельность. Народ издавна искал ответы на вопросы, как узнать, какая будет погода завтра, каким образом определить, когда лучше начинать сельскохозяйственные работы, какой будет урожай. В древности люди чутко реагировали на изменения в природе и делали свои умозаключения относительно богатого или скудного урожая еще задолго до наступления лета: očəžəń šińä· at́am toraj, śä ḱəzńä· śorəś šači «В день Пасхи гром прогремит – год будет урожайный» [12, 729 ]; lovś oću, śä ḱəzńä· śorəś ṕäḱ šači «Много снега – хорошо уродятся зерновые» [12, 721 ].
Мордва занималась земледелием, скотоводством, бортничеством, охотой, рыбной ловлей и тесно контактировала с природой. Благосостояние, успех людей в промыслах во многом зависели от природных явлений и капризов погоды. Крестьяне не только наблюдали за явлениями природы и погодой, но и присматривались к поведению животных и насекомых, следили за повадками (движением, походкой, полетом) птиц, прислушивались к их пению и на основе этих данных делали простейшие выводы:
v́ätrakšńä v́äknašt́ ĺämb́əńd́i
«Лягушки квакают – потеплеет» [12,
715
];
tunda· fḱä karga ńäjat, surəś ṕäḱ šači, lama ńäjat, af šači
«Увидишь одного журавля весной – к урожаю проса, увидишь много журавлей – к неурожаю» [12,
722
];
v́əŕma·ćid́ä lama ńäjat, maći ĺefkstət lama uĺi
«Увидишь много диких уток – к приплоду гусей» [12,
722
];
śokśənda vəŕma·ćišńä alga jotašt, kurək lov praj
«Осенью дикие утки низко летят – скоро выпадет снег» [12,
722
];
v́eĺət́ v́eĺfḱä lokśt́išt́ (
Приметами была пронизана вся жизнь мордовского крестьянина. В них концентрируются фенологические наблюдения народа за явлениями окружающего мира, за различными свойствами природных объектов, в том числе небесных тел, например: kovs kruga marcta, pizam uĺi «Круглая луна – к дождю» [12, 725]. Предвестники осадков весьма многочисленны, и все они находят отражение в приметах: kvas tusttńä v́äŕi ḱeṕəd́išt́, ṕiźəm tuj «Квасные дрожжи вверх поднимаются – к дождю» [12, 729]; tuma·nć v́äŕi ḱeṕəd́i, ṕiźəm tuji «Туман вверх поднимается – дождь пойдет» [12, 722]; kudu tarvast af suva·fńišt́, ṕiźəm tuji «Домой серпы не заносят – дождь пойдёт» [12, 717]. Приближающемуся циклону сопутствует изменение атмосферного давления и характера циркуляции воздуха, что мешает дыму из труб подниматься вверх: kačamś meḱi ṕätnakudu suva·j, jakšafti̜ «Дым в печь возвращается – к холодам» [12, 722].
Приметы – это особый способ кодификации действительности, обеспечивающий хранение и передачу знания. Обобщаемые в жизненном опыте знания об окружающей действительности, включая профессиональные знания, оформлялись практическим языком примет.
Приметы, отражающие вековой опыт и практические наблюдения, вначале никто не записывал. Они передавались из уст в уста. В силу своей краткости, ритмичности и рифмованности они легко удерживались в памяти: tiygi jarcaz af jakašt, tuvətńä śorətńəń śivišt «На ток, кушая, не ходят, свиньи съедят зерно» [12, 711 ]; ozəndəm šuftt af ḱärśišt́, ḱättńä kośḱišt́ «Священные деревья не вырубают, руки отсохнут» [12, 710 ].
В традиционной культуре с ее системой верований и обрядов пространство воспринимается как неоднородное: ряд локусов мифологически маркируется позитивно или негативно, в то время как другие не имеют особых коннотаций. Каждое село или небольшая группа сел имели свои сакральные локусы, которые у мордвы назывались священными рощами, где устраивались сельские общественные моления-озксы и обряды жертвоприношения. Почитание деревьев и священных рощ представляло собой характерную черту дохристианской эпохи. Отдельные деревья считались неприкосновенными: их нельзя было жечь, рубить, а нарушивших запрет настигали наказания. По языческим воззрениям древней мордвы, священными деревья-
Финно – угорский мир. 2013. № 3 ми считались дуб, береза и липа. Вокруг «хлебного» дерева – липы устраивались театрализованные языческие праздники, затем обрядовые действия переходили к березе – покровителю домашнего скота, и наконец, к дубу – символу дождя, земной силы, мирового древа. Озатя (посаженный старик), спрятавшись в густых ветвях священного дерева, перевоплощался то в «бога липы», то в «бога березы» или «бога дуба». Подобные сельские общинные праздники проводились как с целью сохранения и умножения урожая и домашнего скота, так и с целью поклонения деревьям и лесам, которые в жизни мордвы имели первостепенное значение [3, 55, 67 ]. Богов следовало расположить к себе, совершая для этого жертвоприношения, исполняя ритуальные танцы и песни.
Приметы – это особый способ кодификации действительности, обеспечивающий хранение и передачу знания. Обобщаемые в жизненном опыте знания об окружающей действительности, включая профессиональные знания, оформлялись практическим языком примет.
Приметы возникают из ритуалов, традиций, обычаев. Под обычаем подразумевается привычка, навык или действие, исполняемое по заведенному порядку. Язык народных примет до сих пор сохраняет память о существовавшем некогда обычае: mičkt(ä) ozəndəmsta konati kucusa stirct j'drcnist, staba skalct vazi̜jäśəst «Во время моляна творога стучат ложкой по лбу девушек, чтобы рождались телята» [12, 710]. Приведенная примета отсылает нас в ту отдаленную старину, к тем древним обрядам, когда по случаю отела коровы проводились моления. На третий день после отела готовили mičkä – творог. Прежде чем вкусить приготовленное блюдо, читали особую молитву и, следуя примете, щелкали девушек по лбу ложкой, чтобы корова давала здоровый приплод. Это действие, по народному суеверию, способствовало плодовитости скота.
Древние старинные верования не забылись, они глубоко вошли в сознание людей, в их повседневную жизнь. До середины XX в. встречались приметы, в которых подчеркивалась важная роль языческих божеств, например, Юрт-авы (богини двора), заплетающей лошадиную гриву [12, 718 ]: alašaś osal, jurcta^vanas af kelksi^ «Лошадь худая - не любит Юртава» [12, 718 ]. Вероятно, если богиня полюбит лошадь, то заплетает ей гриву, если же не взлюбит, то забьет в угол яслей.
Немало примет было связано с покровительницами стихийных сил природы: Ведь-авой (богиней воды), Вирь-авой (богиней леса), Варма-авой (богиней ветра): v́iŕəsa vajǵäĺ maŕat, śä śeŕi v́iŕa·vaś «В лесу услышишь голос – это зовет Вирява» [12, 724 ]; varmaś v́əžńä·j, varmavańäś idənc väši (veši) «Ветер дует со свистом, Вармава ищет свое дитя» [12, 720 ]. Примета советовала, как спасаться от богини леса: kujgər kačamsta pŕasnən viŕa·vada šarəndi̜št «Дымом от бересты оберегают себя от Вирявы» [12, 726 ]. Приметы, предостерегающие от злых поступков Ведь-авы и Вирь-авы, вероятно, появились в тот момент, когда эти существа в глазах людей превратились в химеры, приобрели демонические черты и стали представлять угрозу для человека.
Привычные образы языческих божеств мирно уживались с христианскими святыми. Христианство стало крайне важной частью народной культуры, святые и святость органично влились в традиционную картину мира. Многие из примет сопряжены с важными календарными праздниками: aldaḱe·jsta v́ed́ńä uĺi, ḱizəś ćeb́äŕ uĺi «На Евдакею вода – к хорошему лету» [12, 711]; očəžəń v́eś mańi uĺi, ḱizəś ćeb́äŕ uĺi «Ночь на Пасху ясная – к хорошему лету» [12, 711]. По состоянию погоды в дни праздника предсказывается погода на отдаленную перспективу: roštəva jotkś pagoda, ḱizəś ṕiźəm uĺi «На Рождество непогода – лето будет до- ждливое» [12, 711]. Факт мифологизации времени в народной культуре – очевидное явление, суть которого заключается в том, что одни отрезки времени наделяются положительной, а другие – отрицательной оценкой. Перед стихией времени человек испытывает страх, он стремится «овладеть» временем и подчинить его с помощью магических манипуляций. Не случайно подмечено, что в древности наши предки праздников боялись не меньше, чем нечистой силы. Страх руководил мыслями и действиями, поэтому соблюдались запреты, ограничения и предписания [10, 187].
Переходный период, когда окончательно провожали лето и встречали осень, связывали с днем преподобного Симеона Столпника, или Летопроводца. К этому дню заканчивались все торговые и хозяйственные дела, ожидались перемены в погоде. Например, гром предвещал долгую и теплую осень: śemjäń šid́ä meĺä atam toraj, śokś kvaka uĺi «Гром после Семенова дня – будет осень долга» [12, 716 ]. После этого праздника налагался запрет на стрижку овец: śemjäń šid́ä meĺä uča·t af narśišt́, jakšams af ḱiŕd́išt́ «После Симеона овец не стригут – холодов не выдержат» [12, 716 ]. Не следовало стричь овец привязанными, иначе они перестанут плодиться: uča·t sotńəź af narśišt, uča·t́ńä af raštašt́ [12, 711 ]. Недобрым знаком считалось приносить с собой обратно с поля хлеб. Нарушающий это табу рисковал потерять домашнюю птицу – кур: pakśasta kšit́ meḱi af tušəndi̜št́, sarasńä kuli̜št́ «С поля семена пшеницы в дом не несут – куры погибнут» [12, 711 ]. В Пасхальное воскресенье первый посетитель весьма почитался как способный принести благополучие в семью. Его старались усадить, чтобы повезло в разведении кур: očəžəń šińä· pervaj sajt ozafńə saź štəba sarasńä ozast «На Пасху первого гостя усаживают, чтобы куры неслись» [12, 712 ]. Удача в разведении птицы могла быть утрачена, если гость отказывался присесть.
Приметы до наших дней сохранили правила, регламентирующие время и способы передачи предметов, символизирующие благосостояние дома и семьи. Их соблюдали, чтобы не лишиться урожая, чтобы дом был всегда полон хлеба, который отождествлялся с богатством, счастьем, жизнью. Не следовало ничего давать по большим праздникам, в начале сельскохозяйственных работ, чтобы из дома не ушли удача и достаток. Особенно опасным считалось время после захода солнца: jarmakt ši valgəmda meĺä af makśśišt, ńiščajgadat «Деньги после заката не дают – нищим будешь» [12, 715]. Избегали давать что-либо взаймы в начале полевых работ, чтобы урожай не перешел к соседям вместе с одолженными предметами: v́id́əmä ĺiśəm šińä· ḱińd́iǵä meźəvək af makśśišt́, śora·vańäś maksəvi «В первый день посева зерновых ничего никому не дают – Паксяву (богиня плодородия, по-кровительнца урожая) отдашь» [12, 718]. Строго следили за тем, чтобы ничего не давать и не продавать в день выноса из дома зерна для посева, в день отела коровы или появления ягненка: uča· värəzam šińä meźəvək af makśśišt, uča·ń pĺamaćä maksəvi «В день, когда ягнится овца, ничего не дают – овечье племя отдашь» [12, 718]. Многие запреты были продиктованы стремлением сохранить плодовитость скота, птицы в хозяйстве и не лишиться удачи в разведении скота. Защитником домашнего скота считался святой-покровитель Георгий: jago·ŕäj χrabraj, vani̜t švatańäńəń jakgamsta sajamsta simsmsta j'arccamsta, t́äjt́ maksa ṕińət́ ńəńd́i «Храбрый Егорий оберегает скот в ходьбе, на выгоне, в питье, в еде, сохранит от собак» [12, 725].
Особенным свойством жанра примет являются постоянное изменение, трансформация, обновление. Они соответствуют определенному типу жизнедеятельности, отражают культуру и быт своего времени. Приметы, как правило, связаны с наиболее важными для человека этапами жизни: рождением, браком и смертью. По народному суеверию мордвы-мокши, рожденный в субботу ребенок будет несчастным: jotk šiń šači
Финно – угорский мир. 2013. № 3 šabaś af čäśĺu [12, 719 ], а родившийся в рубашке – счастливым: šabaś šamafks marcta saci, caslu uli [12, 721 ]. Замечено также, что если ребенка поднимают вверх и он широко раздвигает ноги, то он недолго проживет: šabat́ ḱeṕəd́əmsta ṕilgənzən kuva·lgafti̜, śä šabaś kuli̜ «Ребенка поднимешь и он протягивает ноги – неживучий» [12, 720 ]; ṕäḱ jońu šabaś laməs af eŕäj «Очень умный ребенок долго не живет» [12, 724 ]; ĺemft́əmä šabaś kukuks araj «Безымянный ребенок превращается в кукушку» [12, 723 ].
Вокруг «хлебного» дерева – липы устраивались театрализованные языческие праздники, затем обрядовые действия переходили к березе – покровителю домашнего скота, и наконец, к дубу – символу дождя, земной силы, мирового древа. Озатя (посаженный старик), спрятавшись в густых ветвях священного дерева, перевоплощался то в «бога липы», то в «бога березы» или «бога дуба». Подобные сельские общинные праздники проводились как с целью сохранения и умножения урожая и домашнего скота, так и с целью поклонения деревьям и лесам, которые в жизни мордвы имели первостепенное значение.
Народные приметы сохранили древнейшее представление о смерти, идущее с языческих времен. Смерть неизбежна и предопределена судьбой, но время и обстоятельства своей смерти человеку знать не дано. Однако существовало множество суеверных примет, предвещающих смерть человека: sarazś kukəŕä·j, śä kuca kuli̜ uĺi «Курица кукарекает – к покойнику в доме» [12, 712 ]; sarazś v́äĺd́əŕmava ĺiśi, śä kuca kuli̜ uĺi «Курица вылетит через дымовое оконце (в бане) – в доме покойник будет» [12, 713 ]; salckaza alu kitni, velasa kuli uli «Нос чешется – кто-то в деревне умрет»
[12, 713 ]; kud pŕasa kalma kranč koknaj, śä kuca kuli̜ uĺi «На крыше дома серая ворона каркает – в доме будет покойник» [12, 713 ]; ṕätnakucta kšiś ĺiśi, śä kuca kuli̜ uĺi «Хлеб выходит из устья печи – в доме будет покойник» [12, 714 ]; kalma laŋksa ṕiĺgəc juksəndəv́i, śä lomańć kurək kuli̜ «На кладбище развяжется обувь – тот скоро умрет» [12, 716 ]; ṕičət af ozaftńišt, kula·t «Сосны не сажают – к смерти» [12, 725 ]. Безусловно, приводимые нами приметы свидетельствуют о суеверности мокши, но они были тесно связаны с суровыми реалиями крестьянской жизни, с высокой смертностью, особенно детской, наблюдавшейся вплоть до 50-х гг. ХХ в.
Большая доля примет затрагивает тему удачи/неудачи, счастья/несчастья: ksti̜s moĺəmsta šavańät́ńəń joŕasaź, komada praj, af ṕäšḱəd́i, ozada praj, ṕäšḱəd́i «По дороге за земляникой подбрасывают деревянные миски, упадет вверх дном – не наполнится миска, если на дно – наполнится» [12, 725 ]; əŕv́ä·ńät́ onavac v́eĺäj, pavazəc af uĺi «У невесты свадебная кибитка свалится – счастья не будет» [12, 714 ]; ṕińä karšəzt uga·d́av́i, uda·laj «Собака перейдет дорогу – повезет» [12, 717 ]; kata karšəzt uga·davi, af uda·laj «Кошка навстречу – не повезет» [12, 717 ]; предсказывает рождение девочки или мальчика: avas kulccandamsta cakf maraj, sorac šači «Женщина выходила слушать. Если слышала стук – сын родится» [12, 728 ]; пророчит долгую жизнь или скорейшую смерть: vənča·ndamsta (ve-) əŕvä·ńat surksəc praj, vekənc af eŕäj «Если во время венчания у невесты кольцо упадет, ее век короткий» [12, 714 ]. Мордва считала браки более счастливыми, если они заключались на Масленицу, в период весеннего солнцестояния, когда проводились праздники Ведь-авы, богини воды.
В приметах как в особой форме проявления народной мудрости осмысливаются вечные философские проблемы добра и зла, бытия и небытия, истины и красоты, жизни и смерти: v́äĺd́äŕmava kircks suva-j af parks «Если воробей влетит через дымовое окно (в бане) – не к добру» [12, 719 ]; ṕińəś urəkədi̜ af pars
«Собака воет – не к добру» [12, 721 ]; očəžəńd́i pozaś af uda·laj af pars «На Пасху брага не удастся – не к добру» [12, 721 ]; ṕät́nakudu kši iĺa·d́i̜ af pars «Останется хлеб в печи – не к добру» [12, 724 ]. Некоторые приметы учат избегать неприятностей: očəžəsta avat́ńä ḱäṕä af jakašt́, kuləfńä kudu suva·št́ «На Пасху женщины босиком не ходят – умершие предки в дом входят» [12, 722 ], готовят к неожиданной встрече: kuću iĺa·di̜ šəra· laŋks, śä šińä·konak saj «Ложка останется на столе – в этот день гость придет» [12, 713 ]; ṕiĺǵəźä ḱeŋkšt́i pov́i, konak saj «Ногу в дверях прищемит – гость придет» [12, 715 ] или приятной новости: śäźganć vaĺm ala čikərdi̜, para kuĺä· azəndi̜ «Трещат сороки под окном – к хорошей новости» [12, 718 ]; v́id́i ṕiĺəźä ćińä·j, para kuĺä· kuĺa·n «Звенит в правом ухе – к хорошей вести» [12, 713 ].
Существует немало примет, связанных со строительством будущего жилища: kudəń putəmsta matkati kšit sotńišt, śaməĺd́ä ḱersaź, kəĺi kuntf praj (kši), af pars «При строительстве дома, хлеб подвязывают к опорной балке, затем подрезают нить, если хлеб падает коркой вверх – не к добру» [12, 727 ]. Место под постройку дома крестьяне выбирали очень тщательно, так как от места, по народному убеждению, зависело, будут ли в доме удача, счастье и достаток. О наделении дома благополучием, богатством заботились уже при закладке дома: kudəń putəmsta eźəm pŕä ugəlti jarmakt putńišt koźakadəmaŋksa «При постройке дома в уголок кладут деньги – к богатству» [12, 728 ]. Особое внимание обращали на выбор строительного материала: kaĺgaf šufta kudəńdi af putńišt, śemjäńdi staka uĺi «Поваленное (ветром) дерево не используют для постройки дома, семье тяжело будет» [12, 721 ].
В объектном мире крестьянской избы, ритуально-обрядовой практике печь занимала заметное место, что в немалой степени обусловлено ее важным бытовым значением. Мордва с глубоким почтением относилась к печи, обожествляла ее и поклонялась ей. Сохранилось немало примет, связанных с печью и ее атрибутами: ṕätnakucta śed́ komət́i, śä šińä· konak saj «С печки уголек выскочит – в этот день гость придет» [12, 713]; pazaru tumsta ṕätnakud pańńəsaź štoba uda·laza «Перед выходом на базар закрывают печку, чтобы удался путь» [12, 718]; kačamś meḱi ṕätnakudu suva·j, jakšafti̜ «Дым в печь возвращается – похолодает» [12, 722]; komfkss(a) sotś pali̜, jakšafti̜ «У печного свода сажа горит – похолодает» [12, 715]; śettńä pəkštərdi̜št, jakšafti̜ «Угольки потрескивают – похолодает» [12, 716].
Наличие примет, связанных с лаптями, указывает на весьма широкое распространение лыковой обуви у мордвы с древнейших времен. Это нашло отражение в духовной культуре народа, в ряде примет. На протяжении тысячелетий лыковые лапти служили мордве в качестве основной обуви. У мордвы лапти по технике плетения, по форме частей, отделке, украшению отличались от подобных изделий других народов. К искусству плетения относились серьезно: karct ozada af lijandist, avaca nəmo·j śora šačfti̜ «Лапти не плетут сидя – жена родит немого сына» [12, 719 ].
Приметы – это одна из форм объяснения мира, конкретные, свернутые до формулы правила поведения человека. Многие приметы содержат рекомендации по поводу того, как вести себя человеку, чтобы избежать контакта с недобрыми людьми – колдунами: svadbasta ṕejeĺsa šarəncaź əŕvä·ńät, vädu·nəńdi af śiv́əv́i «На свадьбе невесту обходят с ножом – ведун не околдует» [12, 721 ]. Они учат тому, как предупредить опасность, как избежать нарушения равновесия в человеческом мире. Примету можно квалифицировать в качестве одного из способов, с помощью которого осуществляется экспликация запретов и правил, кодифицирующих повседневную жизнь и быт человека: roštəva jotksta sajarct af karsist, praca saratksti « В рождественскую неделю волосы не стригут – к головной боли» [12, 720 ]; pami·ŋkasa kormat́ńəń kurək af štafńəsaź,
Финно – угорский мир. 2013. № 3 śäŕd́ät́ńä śeĺgəncaź «На поминках пищу не открывают сразу – предки заплюют» [12, 718 ]; pejalpesa af jarctssist, pak orza ula•t «С кончика ножа не кушают – острым на язык будешь» [12, 712 ]; laykstast panarct af sni̜št́, mormaćavat « Рубаху на себе не шьют – рассудок потеряешь» [12, 712 ]. Из этого следует, что наряду с регуляторной функцией приметам присущ воспитательный эффект.
Список литературы Фольклор мордвы-мокши: к проблеме бытования народных примет
- Агапкина, Т. А. Примета/Т. А. Агапкина, О. В. Белова//Славянские древности: этнолингвистический словарь. -М., 2009. -Т. 4. -C. 279-280.
- Aникин, В. П. Русское устное народное творчество/В. П. Аникин. -М.: Высш. шк. -734 с.
- Брыжинский, В. С. Драматическая игра в обрядовых действиях мордвы//Вопросы мордовского фольклора. -Саранск, 1977. -С. 54-75.
- Веселовский, А. Н. Историческая поэтика/А. Н. Веселовский. -Л.: Гослитиздат, 1940. -648 с.
- Гловинская, М. Я. Предсказания и пророчества в русском языке//Понятия судьбы в контексте разных культур. -М., 1994. -С. 174-180.
- Лотман, Ю. М. Несколько мыслей о типологии культур//Языки культуры и проблемы переводимости. -М., 1987. -C. 3-11.
- Пермяков, Г. Л. К вопросу о структуре паремиологического фонда//Типологические исследования по фольклору: сб. ст. памяти В. Я. Проппа. -М., 1975. -С. 247-274.
- Павлова, Е. Г. Опыт классификации народных примет//Паремиологические исследования: сб. ст. -М., 1984. -С. 295-298.
- Ройтер, Т. Суеверные представления о судьбе: русские приметы в сознании современного городского жителя//Понятия судьбы в контексте разных культур. -М., 1994. -С. 187-190.
- Толстая, С. М. Семантические категории языка и культуры: очерки по славянской этнолингвистике/С. М. Толстая. -2-е изд. -М.: Либроком, 2011. -368 с.
- Фидарова, Ф. Т. Логико-дискурсивная структура текстов фольклорного жанра примет и поверий: автореф. дис. … канд. филол. наук. -М., 2001. -25 с.
- Mordwinische Volksdichtung/gesamm. von H. Paasonen; hrsg. und übers. von P. Ravila. -Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura, 1947. -Bd. 4. -897 S.