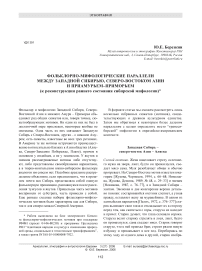Фольклорно-мифологические параллели между Западной Сибирью, северо-востоком Азии и Приамурьем-Приморьем (к реконструкции раннего состояния сибирской мифологии)
Автор: Березкин Ю.Е.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: 3 (37), 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14522535
IDR: 14522535 | УДК: 391
Текст статьи Фольклорно-мифологические параллели между Западной Сибирью, северо-востоком Азии и Приамурьем-Приморьем (к реконструкции раннего состояния сибирской мифологии)
жает то сам себя, то брата. Старуха кормит мнимого брата, рассказывает о своих проделках. “Брат” советует не мучить мужа. Старик застревает в вырытом им ходе; старуха проталкивает его кочергой, возвращает ему глаза. По другой версии [Лукина, 1990, № 65, с. 189–191], жена замечает, как муж вытаскивает свои глаза, приговаривая: “Сэмлек рэм-рэм-рэм”. Далее, как в первом варианте. Из разговора жены мнимый брат узнает, что глаза спрятаны в сундуке. Он их находит и ругает жену.
Эта история принадлежит западно-сибирскому трикстерскому циклу, имеющему параллели на северо-востоке Азии и на северо-западе Америки (например, эпизод с отложенными глазами типичен для коряков, ительменов, эскимосов и атапасков). В Восточной Сибири с местным трикстером (Ивуль у эвенков) связаны совершенно иные истории. В Америке мотив слепого охотника известен эскимосам*, большинству северных атапасков** и индейцев Северо-Западного Побережья***, некоторым индейцам Большого Бассейна и севера Великих Равнин****. Во всех индейских и сибирских текстах охотника обманывает его жена, а он целится в лося или оленя. У эскимосов охотник целится в медведя, обманщица – в мать.
Западносибирско-палеоазиатско-американские параллели прослеживаются и в мотиве мнимый покойник (имитация смерти с целью есть в одиночестве, K1867).
Ненцы (три варианта) [Васильев, 1992, с. 5–6; Куприянова, 1960, № 13, с. 98–99; Лар, 2001, с. 273– 277]. Еомпу (Ëмпу, Ëмбо) говорит матери, жене или бабке, что умирает, просит оставить для него туесок с икрой. Родственник Ëмпу видит, как мнимый покойник ест икру, и кричит, что идут медведи или черт. Ëмпу в страхе выскакивает из могилы.
Энцы (три варианта) [Сорокина, Болина, 2005, № 1, с. 17–20; № 5, с. 30–31; № 6, с. 34–36]. Дëа живет в чуме вместе со старушкой и мальчиком (иногда это его младший брат). Притворяется, будто умер. В могилу ему кладут лососевую икру. Мальчик замечает, что Дëа ест икру. Кричит, что идут медведи, Дëа выскакивает из могилы.
Ханты [Лукина, 1990, № 31, с. 125–127]. Ими-хиты говорит тетке, что умирает, просит положить его под лодку с сетью, топором и котлом. Та приезжает, видит мокрую сеть, костер, думает, что чужие воспользовались дарами. Дядя трикстера, способный превращаться в медведя, сообщает тетке, что племянник ее обманывает. Тетка делает вид, что на нее нападает медведь. Мнимый мертвец оживает.
Северные манси [Куприянова, 1960, с. 92]. Эква-пыгрись живет с бабкой, обещает ей умереть в такой-то день. Бабка хоронит его у рыбьего запора. Однажды навещает, плачет. Внук неожиданно хватает ее платок, оказывается живым, возвращается с ней домой.
Кеты [Дульзон, 1966, № 12, с. 39]. Каскет притворяется умирающим, просит бабушку похоронить его. Приехав на могилу, та видит, что губы Каскета “красные как икра”. Оказывается, что он жив. Затем схожий трюк повторяет бабушка.
У селькупов сюжет не отмечен, но в записях их фольклора вообще много лакун. Началу сюжета может соответствовать история о ленивом сыне, который готов быть похороненным, только бы не работать [Там же, № 48, с. 31].
На северо-востоке Азии мнимый покойник был известен юкагирам, палеоазиатам, ительменам и азиатским эскимосам.
Юкагиры [Bogoras, 1918, N 4, p. 48–49]. Старик притворяется умирающим, велит жене оставить его в покинутом доме вместе с имуществом. Отвозя труп, старуха перепрыгивает через ручей и издает неприличный звук. Муж смеется; ее сын обращает на это внимание, но старуха не верит. Через несколько дней мальчик замечает дым над покинутым домом. Старуха заглядывает в дом и видит, как муж ест жирного лося. Она ощипывает куропатку, оставляя крылья, велит ей лететь и исцарапать мужа когтями. Тот в страхе бежит домой. Жена бьет его, затем они мирятся.
Чукчи [Bogoras, 1902, N 10, p. 648]. Ворон делает вид, что умер. Его жена Мити везет труп к предназначенной для погребения землянке, по дороге пускает ветер. Ворон смеется. Сын замечает это, говорит матери, та упрекает мальчика во лжи, оставляет на могиле мешки с мясом и жиром. Лиса замечает, как Ворон готовит еду (или просто видит дым), сообщает об этом Мити. Та отрезает себе одну грудь, пришивает вместо нее ощипанную куропатку, сва- ливается на Ворона через дымовое отверстие. Тот пугается, возвращается домой.
Коряки (карагинский диалект) [Жукова, 1988, № 38, с. 143–145]. Большой Ворон (Куткыняку) притворяется умирающим, просит Мити оставить на могиле толкушу, ступку, жир, дрова. Вылезает из могилы, ест толченое мясо с жиром, при приближении сыновей залезает опять в могилу. В облике ворона прилетает есть вяленое мясо. Сыновья узнают его; Куткыняку со стыдом возвращается.
Коряки (береговые) [Jochelson, 1908, N 65, p. 224]. Большой Ворон (Кикинняку) запрягает в нарты мышей, приезжает к оленным людям. Те, смеясь, нагружают на нарту много мяса. Неожиданно для них Кикинняку уезжает с поклажей. Дома притворяется умирающим, просит сыновей труп не сжигать, а оставить с провизией в пустой землянке. Сыновья обнаруживают, что, находясь в одиночестве, он ест. Его жена ощипывает куропатку, отрезает себе груди, привязывает их к куропатке, показывает ее мужу. Тот перепуган, возвращается к жене.
Алюторцы [Кибрик, Кодзасов, Муравьева, 2000, № 2, с. 21–24]. Куткинняку притворяется умирающим, велит Мити не закапывать его, а оставить в старой землянке со всем имуществом. Он ставит петли, готовит и ест зайцев и куропаток. Мити посылает сыновей навестить отца. Тот пытается притвориться мертвым. Мити приходит бить мужа; они мирятся, возвращаются домой.
Ительмены (три варианта) [Меновщиков, 1974, № 167–169, с. 508–512]. Ворон говорит, что умрет, велит Мити положить на могилу еду. Съев все запасы, делает вид, что вернулся с того света. В одном варианте дочь ворона замечает, что покойник смеется, но ей не верят. Затем она видит в могиле огонь.
Азиатские эскимосы (Чаплино, четыре варианта) [Козлов, 1956, с. 190; Меновщиков, 1985, № 33, 34, с. 76–78; № 101, с. 244–245]. Охотник притворяется умирающим, просит похоронить его с сетью. Песец или куропатка рассказывает его жене, что мнимый покойник ловит рыбу и ест ее один. Жена забрасывает в землянку мужа деревянную ворону или ощипанную куропатку. Тот пугается, возвращается к жене.
В чаплинском тексте жену трикстера зовут Мити, что может указывать на заимствование сюжета у палеоазиатов, тем более что американским эскимосам он не известен. В Северной Америке сюжет отсутствует у эскимосов, но зафиксирован у атапасков и индейцев Северо-Западного Побережья, причем все американские версии сильнее отличаются от сибирских, чем последние друг от друга.
Коюкон [Jetté, 1908, p. 363–364]. Ворон притворяется умирающим, просит племянников оставить его и прислать двух его жен. Съедает спрятанные племянниками запасы мяса, возвращается с женами. В другом тексте [De Laguna, 1995, N 37, p. 266] Ворон притворяется мертвым с целью узнать, что станут делать другие. По его желанию, недоверчивых или тех, кто хулит покойника, бьют.
Танайна [Rooth, 1971, p. 189, 208, 235]. Ворон влетает в кита, убивает его изнутри. Кита прибивает к берегу. Ворон говорит людям, что кита опасно есть, советует откочевать. Притворяется умирающим, велит оставить его одного и положить рядом снегоступы. Съедает кита в одиночку.
Тлинкиты [Boas, 1895, N XXV/1, S. 315]. Ворон и Кинцино приходят в селение, где много рыбьего жира. Ворон делает вид, что умирает, велит Кинцино сказать людям, что те должны покинуть селение, не взяв с собой жир. Кинцино кладет Ворона в гроб, крепко завязывает, сам съедает жир. Когда Ворон разбивает гроб, оказывается, что весь жир уже съеден.
Цимшиан [Boas, 1916, N 17, p. 72–73]. Ворон превращает кусок гнилой ивы в раба, велит тому сказать людям, что пришел великий вождь. Делает вид, будто умирает. Раб отсылает людей, кладет Ворона в гроб, крепко завязывает, сам ест лучшую треску. Потом освобождает Ворона; оба наедаются вволю.
Квакиутль (два варианта) [Boas 1910, N 12, p. 135–141; 1916, N 40, p. 707]. Норка притворяется умирающим, отвергает все способы погребения, про сит оставить его гроб на островке. Девушки обнаруживают, что там он ест лососевую икру. Норка объясняет, что ожил, благодаря своей колдовской силе.
Береговые сэлиши (пограничная с квакиутль группа комокс) [Boas, 1895, N 4, S. 73–74]. Норка притворяется умирающим, просит оставить его гроб на островке. Его жена выходит замуж за Енота. Норка просит лососей подплыть поближе, убивает их, ложится спать. Волк уносит лососей, мажет их жиром губы Норки, чтобы тот думал, будто сам съел всю рыбу. Ф. Боас упоминает еще одну сэлишскую версию (чехалис?), героем которой также является Норка [Boas, 1916, p. 707].
Западная Сибирь – нижний Амур – Чукотка – Плато и юг Северо-Западного Побережья
Мотив увезенного имущества (персонаж принимает облик младенца, подобран стариком и старухой, увозит нагруженное в лодку имущество приемных родителей) также входит в западно-сибирский трикстерский цикл. У ненцев и энцев мнимый покойник и увезенное имущество объединены в рамках одного текста.
Ненцы (Ямал) [Лар, 2001, с. 273–277]. Убежав с места своего “погребения”, Ёмбу превращается в младенца, заползает старухе под подол; старики усыновляют его. Через три дня он вырастает, велит зарезать последнего бычка, погрузить мясо в лодку, уплывает с мясом.
Энцы [Сорокина, Болина, 2005, № 7, с. 37–38]. Дёа хватает за руку вышедшую из чума старуху, велит крикнуть мужу, что она родила ребенка, превращается в младенца. Когда подрастает, просит приемного отца забить оленя и перекочевать на другое место. Уплывая, забрав мясо, кричит, что он не их сын, а Дёа. В другом варианте приплывает к еще одной старухе, где притворяется умершим, чтобы тайком есть икру [Там же, № 1, с. 17–20].
Нганасаны [Поротова, 1980, с. 21–24]. Дяйку пнул ногой пень, прилип к нему. Старик принес Дяйку домой, сказал жене, что в капкан попался песец. В доме старика Дяйку превратился в младенца и забрался к старухе под подол. Его усыновили и вырастили. Он просит зарезать единственного оленя, грузит мясо в лодку и, уплывая, кричит, что он не их сын, а Дяйку.
Долганы (мотив, скорее всего, унаследован от самодийского субстрата) [Ефремов, 2000, № 17, с. 277– 281]. Лаайку превратился в ребенка; Джигэ-баба решила, что родила. Лаайку вырос, попросил забить единственного оленя, перебрался жить на другой берег реки. Уплывая вместе с мясом, крикнул, что он Лаайку .
Негидальцы [Хасанова, Певнов, 2003, № 68, с. 135–136]. Лиса делает себе глаза из темной брусники, превращается в маленького мальчика. Cтарик находит его, усыновляет, хотя старуха подозревает обман. Подросший мальчик просит погрузить добро в лодку, дать ему погрести и уплывает со всем имуществом.
Хотя в притихоокеанской зоне мотив увезенного имущества в полном виде зафиксирован только у не-гидальцев, один из уже приведенных корякских текстов, в котором Большой Ворон неожиданно скрывается с поклажей, а потом притворяется умирающим [Jochelson, 1908, N 65, p. 224], явно имеет к нему отношение. В Америке полных параллелей мотиву увезенного имущества также нет, однако начальный эпизод (трикстер превращается в младенца, подобран женщиной) и концовка (приняв свой истинный облик, он покушается на имущество подобравших его) присутствуют в десятках мифов индейцев Плато, юга Северо-Западного Побережья и прилегающих районов Калифорнии и Большого Бассейна. В основном это рассказы о том, как Койот выпустил в реки лососей, разобрав дамбу, за которой усыновившие мнимого младенца женщины прятали рыбу [Bierhorst, 1985, p. 142–143].
Трагический инцест . Брат и сестра вступают в брак. Когда рожденные в нем дети узнают о своем происхождении, они убивают родителей либо отец убивает детей, либо родители кончают самоубийством.
Хитрость сестры . Сестра с братом живут одни. Брат не соглашается на инцест. Сестра идет на хитрость, и брат, приняв ее за незнакомую девушку, женится.
Манси : сестра притворяется другой женщиной; брат убивает ее и сына [Лукина, 1990, № 124, с. 327–332]. Манси : брат делает себе куклу из дерева; сестра уничтожает ее, уверяет брата, что она – ожившая кукла, рожает от него сына [Там же, 1990, № 123, с. 326–327]. Удэгейцы : сестра ставит юрту поодаль, притворяется другой женщиной; брат убивает сестру, выбрасывает в тайгу сына и дочь [Арсеньев, 1995, с. 166–167]. Орочи : как у удэгейцев [Там же, с. 167–169], либо сын отправляет родителей в море в лодке без весел [Маргаритов, 1888, с. 28-29]. Уль-чи : брат и сестра сперва не знают о своем родстве; сын, затем дочь и родители превращаются в злых духов [Смоляк, 1991, с. 78–79]. Чукчи : люди вымирают; остаются брат и сестра. Сестра ставит чум поодаль, притворяется другой женщиной; потомки сиблингов вновь населяют страну [Bogoras, 1928, N 11, p. 312–316]. Метисы Марково : сестра ставит юрту поодаль, притворяется другой женщиной; брат убивает сестру [Bogoras, 1918, N 7, р. 131-132]. Лиллуэт, береговые сэлиши, квиле-ут : девушка пачкает углем неизвестного любовника, опознает брата; они убегают вместе. Когда сын догадывается об инце сте родителей, те сжигают себя [Andrade, 1931, N 56, p. 165–171; Boas, 1895, N 4, S. 37–40; Teit, 1912, N 34, p. 340].
Западная Сибирь – нижний Амур
Тексты на сюжет девушка и ведьма - подарки родственников по композиции сложнее рассмотренных выше. Девушка и ведьма выходят замуж. Обе должны принести подарки от своих родственников. Девушка находит пропавшего в начале повествования брата (братьев) или сестру, щедро одарена им, а принесенное соперницей ничего не стоит.
Этот ряд эпизодов встроен в более сложную фабулу, описывающую приключения героини. Наиболее явные параллели с дальневосточными текстами содержат ненецкие и энецкие варианты. У кетов [Алексеенко, 2001, № 133, с. 240–244; Дульзон, 1972, № 75, с. 83–86] есть только начало сюжета (ведьма убивает мать героини), а в нганасанских, селькупских и обско-угорских текстах соответствующие эпизоды вполне понятны лишь на фоне ненецко-энецких.
Ненцы [Головнев, 2004, с. 248–251]. Парнэ и Ненэй-не идут рвать траву на стельки; Парнэ топит Ненэй-не. Дочь погибшей замечает в принесенной Парнэ траве серьги матери, слышит, как Парнэ обещает своим детям накормить их завтра мясом детей Ненэй-не. Взяв младшего брата, девочка убегает, бросает позади себя предметы, превращающиеся в горы и другие препятствия. Старуха переправляет детей через реку, топит преследовательницу-Парнэ, велит детям идти, не оглядываясь. Брат оглядывается; ветки разрывают его пополам. Он велит сестре оставить его на песчаной сопке. Нога девочки проваливается; из ямы выходит девка-Парнэ, навязывается в спутницы. Встретив двоих мужчин, Парнэ садится к хозяину белых оленей, а дочь Ненэй-не – к хозяину черных. По прошествии времени обе девушки должны ехать домой за подарками для мужей. Парнэ едет к дыре в земле, возвращается со стадом мышей. Дочь Ненэй-не находит ожившего брата; тот дает ей новые одежды и оленей. Парнэ бросают в огонь; из пепла появляются комары.
Ненцы [Лабанаускас, 2001, с. 155–163]. Уходя на охоту, семеро братьев не велят сестре выходить из дома. Сестра выходит, видит расходящиеся следы братьев, ставших животными разных видов, младший – медведем. Сестра приходит к берлоге. Жена брата велит ей идти по тропе среди тальника. Девушка идет по возвышенности, садится на пень; из него появляется ведьма, забирает ее одежду. Девушка одевается в платье, данное женой брата-медведя. Ведьма выходит замуж за владельца белых оленей, девушка – за его брата, хозяина черных оленей. Свекр отсылает невесток к их родственникам. Брат-медведь дает нарты, запряженные мамонтами; на них много добра. Ведьма приезжает на нарте, запряженной мышами; старики их давят. Далее – о подмене ведьмой сына женщины, наказании ведьмы.
Энцы [Сорокина, Болина, 2005, № 13, с. 82–88]. Ведьма и женщина живут в одном чуме. У женщины две девочки. Ведьма зовет рвать траву, предлагает искать у женщины насекомых, вонзает ей в ухо шило, приносит тело домой, варит и ест. Старшая дочь замечает останки матери. Девочки убегают; старшая бросает предметы, превращающиеся в препятствия на пути преследовательницы. Старик переправляет девочек через реку, топит ведьму, предупреждает девочек ничего не брать на острове. Младшая нарушает запрет, велит оставить ее в медвежьей берлоге. Старшая останавливается у пня; из него появляется ведьма. Они идут вместе. Ведьма садится на нарту мужчины, имеющего белых оленей, девочка – имеющего черных. Отец обоих мужчин просит невесток съездить к их родственникам. Энецкая женщина едет к берлоге; оттуда выходит сестра с двумя мед- вежатами. Медведь посылает две нарты подарков. Ведьма приводит мышей – это ее олени; старик убивает их ударом ноги. Энецкая женщина рожает мальчика; ведьма подменяет его ведьменком, но обман раскрывается. Ведьму сжигают, пепел превращается в комаров.
Нганасаны [Поротова, 1980, с. 13–19]. У людоедки и женщины по две дочки. Людоедка ведет женщину за тальником, просит наклониться над водой, отрезает ей голову. Дочери убитой слышат, как людоедка обещает своим дочерям, что сама она будет есть мозг взрослой женщины, а они – ее детей. Девочки убегают, бросают украшения матери, создавая позади себя гору и озеро. Старик перевозит их через реку, топит людоедку. Утром сестры обнаруживают, что из дома старика нет выхода. Младшая выходит иглой через щель; старшая застревает. Младшая, пытаясь вытянуть сестру, отрывает ей голову. Голова остается в медвежьей берлоге. Младшая сестра идет дальше. Выскочившая из пня людоедка навязывается в спутницы. Конец рассказа оборван и, видимо, был сходен с энецким.
Северные селькупы [Тучкова, 2004, с. 208–209]. Нэтэнка (“девушка”) и Томнэнка (“лягушка”) живут на одном стойбище. Томнэнка зовет Нэтенку собирать траву для стелек, убивает ее, проколов ей ухо. Дочь Нэтенки видит, как Томнэнка разделывает тело матери, слышит, как та обещает своим детям полакомиться и детьми Нэтенки. Девочка убегает, унося младшего брата. Тот умирает, уколовшись шилом или сверлом; девочка хоронит его. Из-под пня выскакивает девушка-Томнэнка, идет следом на лыжах из деревянных мисок. Обе девушки выходят замуж, Нэтенка рожает мальчика; Томнэнка подменяет его щенком. Муж бросает Нэтенку. Щенок помогает ей добывать зверя, играет с выходящим из воды мальчиком, который оказывается сыном Нэтенки. Она прощает мужа. Томнэнку казнят. Мотив “подарки родственников” отсутствует в этом тексте, но предваряющий его мотив мнимо умершего в пути младшего брата героини имеется.
Северные манси [Куприянова, 1960, с. 109–112; Лукина, 1990, № 128, с. 334–336]. Мось-нэ и Пор-нэ живут вместе; у обеих по двое детей – девочка и мальчик. Пор-нэ зовет Мось-нэ рвать траву для стелек, предлагает покататься с горы, убивает ее, проехав по спине железными лыжами. Дети Мось-нэ находят кишки матери, бегут к ее сестре, бросая гребень, оселок, спички, на ме сте которых возникают чаща, гора, огонь. Когда с адят-ся на кровать, та разваливается. Появляются три Пор-нэ, одна из которых навязывается в спутницы. Мальчик уколол палец шилом, умер. Пор-нэ села в нарту хозяина белых оленей, а молодая Мо сь-нэ – хозяина черных. В городе Мось-нэ находит брата, получает от него оленей. Далее – о неудачной попытке Пор-нэ спрятать солнце.
Ханты [Лукина, 1990, № 28, с. 101–104]. Лиса и Зайчиха живут вместе, у обеих дети. Лиса предлагает кататься с горы на санках, наезжает на Зайчиху, ломая ей хребет. Сын и дочь погибшей видят, как Лиса кормит мясом их матери своих детей. Дети Зайчихи бегут, бросая гребень, оселок, кремень, которые превращаются в чащу, гору, огонь. Лиса отстает. Пока сестра ест морошку, брат проваливается в землю. Далее сестра именуется “женщина Мось”. Она ударяет по пню. Оттуда выскакивает “женщина Пор”, предлагает купаться, надевает богатую меховую одежду Мось, дает ей свою корьевую. В городе Мось выходит за сына “Городского Деревенского старика”, а Пор – за сына Тонтон-старика (этот персонаж – бедняк, хитрец). Мось приезжает на место, где пропал брат. Там стоит дом. Входит медведь, снимает шкуру – это и есть брат. Он посылает сестре стадо оленей.
Орочи [Маргаритов, 1888, с. 29]. Семеро братьев ранят белку. Опасаясь мести белок, они прячут сестру под очагом, пускают в небо стрелы, которые вонзаются одна за другой в хвост и образуют цепочку. По ней братья поднимаются на небо. Сестра идет их искать, приходит к лягушке. Та берет у девушки одежду, надевает на себя. Девушка прячется внутри палки. Приходят двое братьев. Старший садится рядом с лягушкой, младший – у палки, стругает ее ножом; на ней выступает кровь. Старший уходит с лягушкой; младший возвращается за ножом, находит девушку. В доме братьев лягушка показывает свекру своих родственников-лягушек; тот прогоняет невестку. Девушка зовет своих братьев. Они спускаются с неба, дарят ей богатую одежду.
Удэгейцы [Лебедева и др., 1998, № 31, 107, с. 227– 235, 474–476]. Оба удэгейских варианта (один из них в записи В.К. Арсеньева) принципиально не отличаются от орочского. В них семь небесных братьев девушки приносят ее свекру ценные подарки, а подарки лягушек ничтожны.
Негидальцы [Цинциус 1982, № 25, с. 135–139]. Отец прогоняет дочь. Та попадает к лягушке, которая забирает у девушки украшения и одежду. Девушка превращается в палку. Приходят двое братьев. Один берет в жены лягушку. Другой стругает палку, видит кровь, а вернувшись за забытым ножом, застает девушку. Отец братьев просит невесток принести ему угощение, приданое, привести родственников. Лягушка варит лягушачью икру, приносит листья, лягушек. Девушка идет к лиственнице; с вершины к ней падают мешки с едой и одеждой. Двое мужчин, которые оказываются родственниками девушки, спускаются с неба, возвращают девушке отобранные у нее лягушкой одежду и украшения. Лягушка и ее муж удавились.
Контекст, в который встроены интересующие нас мотивы, в Западной Сибири и на нижнем Амуре, хотя и не вполне идентичен, совпадает по следующими эпизодами: 1) девушка уходит из дома; 2) теряет брата (братьев) или сестру, покидающего мир людей; 3) встречает ведьму (лягушку), которая притесняет ее; 4) девушка и ведьма выходят замуж за двух братьев или соседей; 5) пропавший (мнимо погибший) брат (братья) или сестра девушки помогает ей восторжествовать над ведьмой. Такой последовательности эпизодов в текстах за пределами нижнего Амура и Западной Сибири больше нет почти нигде. Изредка она встречается в якутских и эвенкийских историях. Последние включают некоторые мотивы, специфичные либо только для амурского, либо только для западно-сибирского фольклора, но амурские и западно-сибирские мифы отличаются от якутских и эвенкийских. Например, только в первых говорится о наличии у девушки семи братьев. Это значит, что эвенки и якуты не были промежуточным звеном в передаче сюжета между Западной Сибирью и нижним Амуром, а скорее сами заимствовали его от не известного нам субстрата.
Якуты [Виташевский, 1914, № II. 1, с. 459–458]. Две девушки-сироты нашли камень, который превратился в ребенка и оказался людоедом. Сестры бегут. Старуха протягивает через реку ногу; сестры переходят по ней на другой берег. Преследователя старуха топит. Далее сестры приходят к демонице, которая запирает их в чулане. Младшая сестра выскакивает через щель наружу. У старшей отрывается голова. Младшая несет ее с собой. Голова соглашается остаться лишь на дереве, разбитом молнией. Младшая сестра приходит к лягушке. Та прячет ее. Муж лягушки находит девушку, предлагает якутке и лягушке сходить к их родным за подарками. Лягушка приносит червей и пиявок. Якутка идет к тому месту, где оставила голову сестры. Оказывается, сестра вышла замуж за Грома. Тот одаряет якутку, давит лягушкиных пиявок. Муж велит женам лечь спать на крыше. Лягушка замерзает насмерть. Второй текст на тот же сюжет неполон [Там же, № I. 5, с. 456–458].
Эвенки (сымские). Росомаха съела мать двух девочек-Зайчат. Они прибежали к старухе, затем идут не по указанной ей, а по ложной дороге, попадают в дом без отверстий. Старшая проскальзывает в щель, младшая застревает. Ее голова отрывается и просит сестру не о ставлять ее на колоде, а оставить на пораженном молнией дереве, где и выходит замуж за Грома. Младшая сестра пришла к лягушке. Конец рассказа скомкан. Сказано лишь, что приведенные лягушкой олени – это насекомые и что в результате лягушка стала жить в воде [Василевич, 1936, № 22, с. 23–24].
“Транссибирская” мифология в евразийско-американском контексте
Рассмотренные мотивы отличны от тех, которые представлены в Южной Сибири, Центральной и Западной Азии и в Северной Америке к востоку от Скалистых Гор [Березкин, 2003; 2005в, с. 148–151]. Различия проявляются прежде всего в содержании текстов. Если в мотивах южно-сибирской группы в центре повествования находится обычно молодой герой, мужчина, то протагонист транссибирских – ребенок, молодая женщина либо трикстер. Что же касается ареального распределения, то те мифологические сюжеты и мотивы, которые до миграций тунгусов и якутов имели транссибирское распространение, в Америке, как уже отмечалось, концентрируются на северо-западе, на относительно близких к Азии территориях. Это можно было бы считать доводом в пользу их позднего распространения, и если говорить о частных подробностях, то так, вероятно, и есть. Однако с привлечением более широкого круга евразийских и американских данных ситуация в целом выглядит иначе – те же мотивы, хотя и реже либо в иных вариантах, представлены во всем циркумтихоокеанском регионе, но отсутствуют в континентальной Евразии. Так, слепой охотник известен в Бразилии у паре-си Мато-Гроссо [Pereira, 1987, N 163, p. 662–663], а рассмотренный сибирский сюжет девушка и ведьма содержит общие элементы с популярнейшим трансамериканским, точнее, циркумтихоокеанским (вплоть до Австралии) сюжетом девушки в поисках жениха [Березкин, 1999]. Мотив цепочки из стрел , по которой на небо забираются братья героини в удэгейском и орочском мифах, – это типичнейший циркумтихоокеанский мотив, известный в Северной и Южной Америке, Австралии, Меланезии, Малайзии, Индонезии, но отсутствующий в Африке, Европе и на большей части Евразии.
Особенно показателен сюжет, который в связи с индейскими материалами обычно именуется Ол ениха и Медведица . Две женщины живут вместе и имеют детей. Одна нередко ассоциируется с медведицей или иным хищником, другая – с травоядным животным или с более слабым хищником. Первая выходит с подругой из дома, убивает ее, говорит со своими детьми о том, как умертвить и когда съесть детей убитой. Осиротевшие дети либо мстят, убивая детей убийцы матери, либо только спасаются бегством. В Западной Сибири именно этот рассказ открывает серию приключений той самой девушки, которая бежит от убийцы матери и к которой затем навязывается в спутницы ведьма. Как уже отмечалось, данный ряд эпизодов зафиксирован у всех западно-сибирских народов, в т.ч. у кетов.
В большинстве и сибирских, и американских версий людоедка убивает свою жертву, когда они обе идут собирать траву или дикорастущие клубни, причем чаще всего людоедка предлагает жертве искать у нее в волосах насекомых и кус ает ее за шею или вонзает в ухо о стрый предмет, реже топит ее. Хотя у западно-сибирских народов людоедка медведицей прямо не называется, ее имя Пор ассоциируется с обозначением обско-угорской фратрии Пор, предком которой считался медведь, в то время как предком фратрии Мос – заяц или гусыня [Кулем-зин, 2000, с. 200, 203–204].
В Северной Америке мифы с сюжетом Олениха и Медведица встречаются в пределах обширной, но компактной области на западе континента от сэлишей до восточных пуэбло*, а также у меномини ареала Великих Озер [Bloomfield, 1928, N 110, p. 493–501]. Во многих текстах спасающиеся бегством дети убитой женщины переходят реку по протянутой ноге или шее персонажа, ожидающего их на берегу. Этот последний мотив в Западной Сибири отсутствует, но встречается у якутов (включая северных), киренских эвенков, орочей, нивхов, юкагиров и кереков**. Во всех случаях по ноге-мосту через водоем переходит спасающаяся от людоеда девушка или девочка, но не герой-мужчина. Мотив нога ( шея )- мост за пределами Сибири и Северной Америки не встречается.
Аналоги сибирских мифов прослежены и в Южной Америке. Это версии из области Чако, в которых убийцей и жертвой обычно являются персонажи мужского пола – Ягуар, Гривистый Волк и Олень [Calífano, 1974, р. 49; Wilbert, Simoneau, 1982, N 2–4, р. 38–44; 1987, N 101–103, р. 403–418]. Но еще показательнее наличие параллелей в Южной и Юго-Восточной Азии.
Тибетцы Сиккима [Крапивина, 2001, с. 135– 143]. Зайчиха и Медведица живут рядом; у обеих по сыну. Обе идут копать дикорастущие клубни. Медведица убивает Зайчиху. Зайчонок подстраивает так, что Медвежонок оказывается раздавленным жерновом. Он убегает; преследовательницу убивает Тигр.
Лода (Хальмахера) [Baarda, 1904, N 12, р. 438– 441]. Две жены одного мужа пошли ловить рыбу. Одна столкнула другую в воду, расчленила, принесла мясо домой. Сыну и дочке убитой она сказала, что варит рыбу. Дети слышат из котла голос матери. Когда людоедка ушла, они зажарили ее ребенка, бросились бежать. Птица помогла им перейти реку, утопила преследовательницу. Сходные тексты, оригиналы которых мне пока недоступны, зафиксированы в других районах Восточной Индонезии [Dixon, 1916, р. 338].
Ассоциация антагониста и жертвы с медведицей и зайчихой позволяет сопоставить сиккимский и обско-угорские (Пор-нэ и Мось-нэ; ср. также текст сымских эвенков) тексты, тогда как мотив убийства детьми жертвы (а не просто их бегство) ребенка антагониста объединяет варианты из Южной и Юго-Восточной Азии с североамериканскими. Более того, почти во всех версиях дети жертвы убивают детей убийцы одинаковыми способами – жарят, коптят, душат дымом. Наличие, безусловно, сходных и специфических по набору мотивов в текстах на территории Азии и Америки при тысячекилометровых расстояниях между отдельными их ареалами свидетельствует о том, что перед нами, скорее всего, реликты некоего единого в прошлом культурного пространства.
К настоящему времени удалось отыскать уже около сотни сюжетообразующих мотивов, распространенных в Индо-Тихоокеанском регионе, из которых два десятка встречаются также на Азиатском Северо-Востоке, на нижнем Амуре и в Западной (но не в Восточной и не в Южной) Сибири [Березкин 2005а; 2005б, с. 148–150]. Некоторые из них зафиксированы и у саамов. Эти мотивы противопоставлены другой группе – континентально-евразийской. Предположение о том, что в прошлом сибирская мифология по составу мотивов была индо-тихоокеанской, позволяет понять, почему все индейские фольклорные традиции (а возможно, и языки, хотя это вопрос спорный) содержат столь много общих черт. Хотя ранние мигранты двигались в Америку, скорее всего, двумя разными маршрутами (вдоль побережья и через Центральную Аляску), области в Азии, где берут начало эти маршруты (близ Тихого океана и где-то в Восточной Сибири), в конце плейстоцена были заселены людьми с достаточно близкой культурой. На этом фоне еще контрастнее выглядит группа фольклорно-мифологических мотивов, характерная только для центральных районов Северной Америки и имеющая параллели в глубине континентальной Евразии.