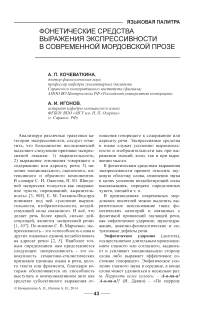Фонетические средства экспрессивности в современной мордовской прозе
Автор: Кочеваткина Анна Петровна, Игонов Артур Иванович
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Языковая палитра
Статья в выпуске: 2, 2014 года.
Бесплатный доступ
Анализируются фонетические средства экспрессивности в современной мордовской прозе: эмфатическое ударение, звукоподражание, анатомо-физиологические и ситуативные дефекты речи.
Звуковая оболочка слова, интенсивность, экспрессивность, эмфатическое ударение
Короткий адрес: https://sciup.org/14723087
IDR: 14723087
Текст научной статьи Фонетические средства экспрессивности в современной мордовской прозе
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
(г. Саранск, РФ)
Анализируя различные трактовки категории экспрессивности, следует отметить, что большинство исследователей выделяют следующие признаки экспрессивной лексики: 1) выразительность; 2) выражение отношения говорящего к содержанию или адресату речи; 3) наличие эмоционального, оценочного, интенсивного и образного компонентов. В словаре С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой экспрессия толкуется как «выражение чувств, переживаний, выразительность» [3, 908]. Е. М. Галкина-Федорук понимает под ней «усиление выразительности, изобразительности, воздействующей силы сказанного. И всё, что делает речь более яркой, сильно действующей, является экспрессией речи» [1, 107]. По мнению С. В. Марченко, экспрессивность – это «способность слова и других языковых единиц воздействовать на адресат речи» [2, 5]. Наиболее точным определением нам представляется следующее: экспрессивность – это совокупность семантико-стилистических признаков единицы языка и речи, целого текста или фрагмента, благодаря которым обеспечивается их способность выступать в коммуникативном акте как средство субъективного выражения от- ношения говорящего к содержанию или адресату речи. Экспрессивные средства в языке служат усилению выразительности и изобразительности как при выражении эмоций, воли, так и при выражении мысли.
К фонетическим средствам выражения экспрессивности принято относить звуковую оболочку слова, изменения звука в целях усиления воздействующей силы высказывания, передачи определенных чувств, эмоций и т. п.
В произведениях современных мордовских писателей можно выделить выразительное использование таких фонетических категорий и связанных с фонетикой проявлений звучащей речи, как эмфатическое ударение, звукоподражание, анатомо-физиологические и ситуативные дефекты речи.
Эмфатическое ударение (долгота), осуществляемое длительным произношением гласного или согласного, выдвигает и усиливает эмоциональную сторону слова либо выражает эффективное состояние говорящего. Эмфатическое усиление гласного звука в середине, в конце слова может удлиниться в несколько раз: м. Перронть келес кулевсь: - А-а-ня-я! А-а-ня-я!! (И. Девин) - «По перрону
было слышно: – А-а-ня-я! А-а-ня-я!!»; м. – Дай ся сёрмать, штоба эсь сель-мосон няелине. – Ма-ря-я-са-ак , тейнза дай сёрма! (И. Девин) – «Дай то письмо, чтобы собственными глазами увидела. – Слы-ы-ши-и-ишь, дай ей письмо»; э. Ортя кепедизе прянзо ды поза-ня сельмензэ ладинзе Стяпанонь лангс. – А!? – тандадозь серьгедевсь сон. – Те мон… мон, Гаруз Стяпан… – То-о-он , – кувакасто мерсь Ортя (К. Абрамов) – «Ортя (Артемий) поднял голову и мутными (тусклыми) глазами уставился на Степана. – А!? – испуганно вскрикнул он. – Это я… я, Гаруз Степан… – Ты-ы-ы, – протяжно сказал Ортя».
Эмфаза усиливает реалистичность художественного текста, позволяя читателю ощутить взволнованность речи персонажей, то или иное их отношение к собеседникам. Через эмфатическое ударение передается интенсивность проявления действия или признака: м. Попсь аф ламос арьсесь, вешсь, кодама грех нинге кизефтемс и мярьгсь: – Ломатть обижакшнеть? – Вай-вай-ва-ай! Ся тон абон, бачка, корхтат, деряй мондейне ло-манць обижави? (Т. Кирдяшкин) – «Поп немного подумал, искал, про какой бы грех еще спросить, и сказал: – Людей обижал? – Ой-ой-ой! Это ты напрасно, бачка, говоришь, разве я смогу человека обидеть?»; э. – Вана докторось решасы тынк пелькстамонть, – мерсь Карцяй-кин. – Мезень коряс пелькстамось? – кевк-стизе Уркунов. Карцяйкин толковизе тен-зэ. – Мг , тевесь сложной…, што лиясто натой миньгак, специалистнэ, манявта-но вашов эльдтнень коряс. – Хо , муевсь специалистэсь! – ранкстась Лавгинов… (Коломасов) – « – Вот доктор решит ваш спор, – сказал Карцяйкин. – По какому поводу спор? – спросил Уркунов. Карцяйкин разъяснил ему. – Мг, дело это сложное, иногда даже мы, специалисты, ошибаемся по поводу жеребой кобылы. – Хо, нашелся специалист! – крикнул Лавгинов…».
Звукоподражание – приблизительное воспроизведение природного звучания напоминающими его звуками речи (например, «ку-ку» – подражание кукуш- ке, «ква-ква» – подражание лягушке), а также слово, возникающее путем такого подражания (например, кукушка, квакать, квакушка) [3, 227]. Звукоподражательные слова используются как экспрессивно-стилистическое отображение действительности. С помощью звукоподражаний читающий может «слышать» эти звуки и тем самым погружаться в мир произведения. Особым многообразием отличаются звуки, издаваемые человеком посредством каких-либо его действий: м. Аня калдор-кулдор озась оцю арзянь шири шары пианинать малас, ушедсь сурбряса шавома акша, равжа клавишанятнень ланга, тяка пингоня нолдась вайгяль: О-о-о, О-о-о, О-о-о, У-у-у, у-у-у, у-у-у… Кулхцондыхне лып-лап, лып-лап сель-мосост (Мокша, 2009, 11, 58) – «Аня шумно (букв.: калдор-кулдор) села за пианино, похожее на большой сундук, начала подушечками пальцев нажимать на белые и черные клавиши и в это же время запела: О-о-о, О-о-о, О-о-о, У-у-у, у-у-у, у-у-у… Слушатели хлоп-хлоп глазами»; м. Мон келептине кургозень, азолексолень кяжи валхт, тянь вастс – «а-а-апчи-и-их» кшнязевонь (там же, 59) – «Я открыл рот, хотел было сказать грубые слова, но вместо этого “а-а-апчи-и-их” зачихал»; м. – Мезе-е-е!!! – бта давол пилезон эрьхтсь. Мон дубор-дубор потазевонь, цють изень венем пильга-лу повф каймоть туркс (там же, 57) – «Что-о-о!!! Будто ураган ударил в ухо. Я с грохотом (букв.: дубор-дубор) попятился так, что чуть не растянулся через попавшуюся под ноги лопату»; м. …Туп-туп-туп! – кулеви Тракторонь Фамилиять молемац, эхянь масторсь стакаста вайме таркси оцю землетря-сениянь карша (там же, 86) – «…Туп-туп-туп! – слышится походка Тракторной Фамилии, как будто земля тяжело дышит перед большим землетрясением»; э. Выр велявтнесь од цёра, туекшнесь (М. Ев-севьев, ЭРС) – «Парень быстро (резко) развернулся и вышел»; э. Покине-пок одирьванть кемензэ, Чольдерь-кальдерь одирьванть грушанзо, Нул-вал одирь- ванть цёконзо, лый-лай одирьванть фа-тазо (М. Евсевьев, т. 2) – «Постукивают (букв.: покине-пок) у невестки сапожки, Звенит, гремит у невестки монисто, Роскошные у невестки кисти, колышется у невестки фата»; Никул Эркай стясь сто-ленть экшстэ, мезе-бути мерсь тензэ (Иван Прончатовненди), тона – бырк-вырк! – чиезь сценать удалов (А. Доронин) – «Никул Эркай встал из-за стола, что-то сказал ему (Ивану Прончатову), тот – бырк-вырк! (очень быстро и суетливо) побежал за сцену».
Богатую информацию образного характера несут в себе звуки, издаваемые животными: м. – У-у-у! Гав-гав-гав! – сяка тев кайгондихть пинетнень пи-чефти моросна (Мокша, 2009, 11, 67 ) – «–У-у-у! Гав-гав-гав! – то и дело слышны тоскливые песни собак»; э. Шкань ютазь маринь: « Тра-та-та-та-та ». Велявтые прям ды вейке умаринать лангсто рединь сезьган (Сятко, 1997, 9, 35 ) – «Через некоторое время услышал: “Тра-та-та-та-та”. Повернулся в сторону звука и заметил: на яблоне стрекочет сорока».
Неодушевленные предметы также издают определенные звуки. Их могут вызвать действия человека, силы природы, механическая и электрическая энергия. Все это наделяет неодушевленные предметы звуками, а в человеческой речи способствует возникновению звукоподражаний со значением интенсивности и образности: м. …Гриня кеподезе кафта почкста бахадемканц. «Ба-а-ах! Ба-а-ах!» – ваймонь таркси пандонять вель-хкска. Пандонясь сейтов яказевсь, лангу комотсь афи азомшка оцю вирень тува… Зверсь аф козонга ворьгодсь кяшема, ко-мотнезь срхкась стяфтыенц ширес. Гри-нянди тяса бахадемаль зверть коняс – аш мезьса. Кафксть ляцсь менели, зепозон-за лия пулят изь путне. Вай, тядяняй-аваняй, тянь шарьхкодемда меле сон стане вадезень кочкярянзон, пилесон-за мянь варма увнась. Кодама ни тоса сокст, коданга ворьгодемс тяста сяда ичкозиня. Ласьки алясь, эи тараттне – юв-юв – пилензон вакска вяшкихть, ко-нац шама ланга хлестядьсы, бта пеельса керсы. Ох-вах, ваймоц цють тарксеви. Конашка ётка кенерькшнесь ласькомс, сонцьке аф содасы. И тяса «Ба-бах! Бабах!» – аф ичкозе инголенза ляцсть, меле тага кафксть. – Э-е-ей! Ожуда, тяда ляценде, тя аф зверь, тя мон, Гриня! – мезе ули виец пешкоды ласькись. Тяса тага – «Ця-а-ар!» «Вы-ыж-ж!» – мезе-бди лиезь ётась ёфси Гринянь прянц вельфке. «Вай, ня шава прятне машфтсамазь!» – кфчядсь алять прява, сонць хлоп ловть потмос. Кулхцонды. Аш, мельганза пани аф маряви. Сонць тага комотсь пиль-ге лангс, ловть ланга чижелфнезь ёр-дась пря лиятнень ширес. Тонат… ку-лезь цяторфть, тага ко-дак жахадихть кафксть. Гриня бот меки пеконц лангс, пряцка ловть потмос крхмадевсь (Мокша, 2009, 11, 64) – «Гриня поднял двустволку. “Ба-а-ах! Ба-а-ах!” – над дышащим бугорком. Бугорок зашевелился, и наружу выскочил огромный дикий кабан… Зверь никуда не собирался прятаться, а вприпрыжку направился прямо в сторону того, кто его разбудил. Здесь бы Грине бахнуть в лоб зверю – да нечем. Два раза выстрелил в воздух, а в карман другие пули не положил. Ох, мамочка, поняв это, побежал, аж пятки засверкали, в ушах ветер засвистел. Какие там лыжи, как-нибудь убежать бы отсюда куда подальше. Бежит мужик, ледяные ветки за ушами свистят (букв.: юв-юв), некоторые из них по лицу хлыщут, как ножом полосуют. Ох (ох-вах), еле дышит. Сколько он бежал, и сам не помнит. И тут “Ба-бах! Ба-бах!” – недалеко от него выстрелили, затем еще два раза. – Э-е-ей! Подождите, не стреляйте, это не зверь, это я, Гриня! – что есть силы крикнул убегающий. Здесь опять – “Ця-а-ар!” “Вы-ыж-ж!”, что-то пролетело над головой Грини. “Ой, эти пустоголовые убьют!” – мелькнуло в голове мужика, а сам – хлоп в снег. Слушает. Нет, за ним не гонятся. Сам опять вскочил на ноги, скользя по снегу, кинулся к другим. Те, услышав треск, опять ка-ак жахнут два раза. Гриня – бот (грох, молниеносно) на живот, аж голова в снег зарылась»; м. Тук-тук-тук! – стукасть ва-гонть ала шарыхне (Мокша, 1997, 3/4, 61) –

«Тук-тук-тук – стучали под вагоном колеса»; « Бульк », – прась ведаркав кядьстон-за модамарьсь (В. Мишанина) –
«“Бульк”, – упала в ведро картошка»; м. Шра лангс путомста – калт ! – кал-тадсь кунара рамаф кшись (Мокша, 1995, 6, 86 ) «Ложась на стол – стук! – стукнул давно купленный хлеб».
В примерах употребления мордовскими писателями анатомо-физиологических недочетов речи можно видеть такой компонент экспрессивности, как образность.
К проявлениям анатомо-физиологических дефектов речи относятся фиксируемые на письме возрастные особенности произношения пожилых людей, детей – шепелявость, картавость и др.: м. Савва тоже сась куду. – Тя кие шу-ваш ? Тя Шавушка тон шать ? – Исай атя пянаклангста кизефтезе куду сувай цёранц. Исай атянь сельмонза сокоргот-кшнесть сиредень пяльхть (Т. Кирдяш-кин) – «Савва тоже пришел домой. – Это кто зашел? Это Шавушка (Саввушка) ты пришел? – дед Исай с печки спросил заходящего в избу сына. К старости глаза деда Исая слепли»; м. …Борис лувсь: « Раз… два… три! » – яфодезе кяденц. И Витя фатязе: – Здластвуй , бабуска-молос , Ти цево в меске пинес ? .. – Не, не, не!.. – лоткафтозе Витянь аляц. – Васен-да аф тянь… А потом, мон тонафних-тень: дедушка-мороз, а тон – бабуска-молос … (И. Девин) – «…Борис считал: “Раз… два… три!” – махнул рукой. И Витя начал: –Здластвуй, бабуска-молос, Ти цево в меске пинес?... – Не, не, не!.. – остановил Витю отец. – Сначала не это. А потом, я тебя учил: дедушка-мороз, а ты – бабуска-молос…»; э. Вете иесэ цё-рынезо мольсь ваксозонзо, ноцковтызе понкс пильгеде ды кевкстсь: – Тетяй, а тетяй? Те мезе гонолалось ? (Сятко, 1997, 9, 134 ) – «Пятилетний мальчик подошел к отцу, дернул за штанину и спросил: – Папа, а папа, что такое го-нолал (гонорар)?»; э. Яхимень цёрась,
Ванька, весть чийсь ялганзо кис. – Коя , адя монь майто ! – Ков? – кевкстизе Коля. – Адя седе куёк ! – Ванька зепстензэ таргась васоньбеельть. – Тетям пиесэ уды, сеясь кайдазсэ … (В. Коломасов) – «Сын Яхима, Ванька, однажды прибежал за другом. – Коя (Коля), пойдем со мной! – Куда? – спросил Коля. – Пойдем быстрее! – Ванька вытащил из кармана ножницы. – Отец в огороде спит, коза в хлеву…».
В примерах употребления мордовскими писателями анатомо-физиологических недочетов речи можно видеть такой компонент экспрессивности, как образность. Данное фонетическое средство используется, в частности, для передачи речи лиц в нетрезвом состоянии: Стропилкин весе сорновтось, тетькинзе якстере сель-мтнень ды авардезь ладсо мерсь: – Ишак шюлмшимизь , понимаешь, шюлмши-мизь . Дай ишень таликанть течши ! (К. Абрамов) – «Стропилкин задрожал, вылупил красные глаза и чуть не плача попросил: – Вчера меня связали, понимаешь, связали. Дай мне вчерашнюю долю сегодня».
В произведениях мордовских авторов встречаются слова, передающие заикание, возникшее, в частности, от сильного страха: м. – Тя мезе тяфта мархтот? – ялганц ваксс пачкодемда меле мзолдозь кизефтсь Витёк. – Вай, шамаце, бта афи тонцень… – Ар-ар-р-р-аттяф-тяф-та-та-м-м-кс , – кярькназь-мкназь карше-зонза мярьгсь тона… (Мокша, 2009, 11, 62 ) – «– Это что с тобой? – подойдя к другу, с улыбкой спросил Витек. – Ой, лицо будто не твое… – Ста-а-а-нешь та-та-ки-и-им, – заикаясь сказал тот…»; э. Андрон… чувтомсь… – Оймень грабамо сыть, разбойник? – Чу-чуман . Ме…мезе ба-жат монь марто т…тееме ? (А. Кутор-кин) – «Андрон… замер… – Душу ограбить пришел, разбойник? – Ви-ви-новат…Ч-что со мной собираешься д-делать?».
К ситуативно-произносительным средствам экспрессии следует отнести искажение русских слов из-за незнания языка: м. – Ну, староста, сембе анокт? Или нинге коль келепнесак кург-цень? – Анокт, анокт, ваше плдародия… (Т. Кирдяшкин) – «– Ну, староста, все готовы? Или все еще рот разеваешь? – Готовы, готовы, ваше благородие»; м. – Мезе тяни, Куля бабай, – кувака-ста таргазе сон. – Сави кудце ликвидировать… Куля баба спасибазь люпштазень мяштезонза кядензон: – Ли-тидировать, – азозе сон председательть мельге мялезонза туф валть. – Кудбря-нязень вельхтяфтсак, стане? Николай Андриановиченди ашезь кирдев бабать кенярдиень ванфоц и шарфтсь вальмять шири. – Аф ёфси стане,…мон мярь-гонь, сави урядамс ульцяста кудцень… (В. Мишанина) – « – Что теперь, баба Акулина, – протяжно произнес он. – Придется дом твой ликвидировать… Баба Акулина признательно (благодарственно) сложила руки на груди: – Лити-дировать, – повторила за председателем понравившееся ей слово. – Крышу дома моего покроешь, так? Николаю Андриановичу стало неловко, не выдержал радостного взгляда старушки и отвернулся к окну. – Не совсем так, я сказал, убрать придется твой дом с улицы...»; э. – Монь лемем эрзякс – Таня, рузокс – Татьяна, а хвамелиям – Нужань. – Валдаева, – ёвтась кисэнзэ Витя. – Сон минек тейтернесь (А. Куторкин) – «Меня зовут по-эрзянски – Таня, по-русски – Татьяна, а фамилия – Нуждаева. – Валда-ева, – сказал за нее Витя. – Она наша (из нашего села) девочка».
Таким образом, в произведениях современных мордовских писателей такие фонетические категории, как звукоподражательные слова, эмфатическое ударение, анатомо-физиологические и ситуативные дефекты речи, искажения слов и др., наделены экспрессивностью, поскольку в их значении присутствуют ее компоненты: интенсивность, оценоч-ность и образность. Образность в тексте выступает в качестве связующего, обобщающего компонента, а интенсивность и оценочность проявляются в разных ситуациях и контекстах, причем либо слабо, либо, наоборот, очень ярко.
Поступила 03.02.2014
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ м. – мокшанский язык;
-
э. – эрзянский язык.
Список литературы Фонетические средства экспрессивности в современной мордовской прозе
- Галкина-Федорук, Е. М. Об экспрессивности и эмоциональности в языке//Сборник статей по языкознанию: профессору МГУ акад. В. В. Виноградову. -М., 1958. -С. 103-124.
- Марченко, С. В. Категория эмотивности и экспрессивности в повестях и рассказах И. С. Тургенева1871-1882 гг.: автореф. дис. … канд. филол. наук/С. В. Марченко. -Самара, 2001. -18 с.
- Ожегов, С. И.Толковый словарь русского языка/С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. -М.: Азбуковник, 2000. -940 с.