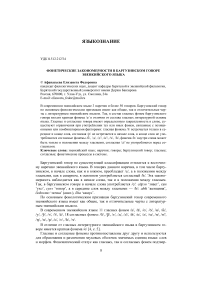Фонетические закономерности в баргузинском говоре эвенкийского языка
Бесплатный доступ
В современном эвенкийском языке 3 наречия и более 50 говоров. Баргузинский говор по основным фонологическим признакам имеет как общие, так и отличительные черты с литературным эвенкийским языком. Так, в состав гласных фонем баргузинского говора входит краткая фонема /е/ в отличии от состава гласных литературной основы языка. Гласные и согласные говора имеют определенную закрепленность в слове, существуют ограничения при употреблении тех или иных фонем, связанные с позиционными или комбинаторными факторами: гласная фонема /э/ встречается только в середине и конце слов, согласная /р/ не встречается в начале слов, в конце слов не употребляются согласные фонемы /б/, /д/, /д'/, /н'/, /ч/, фонема внутри слова может быть только в положении между гласными, согласная /д'/ не употребляется перед согласными.
Эвенкийский язык, наречия, говоры, баргузинский говор, гласные, согласные, фонетические процессы в системе
Короткий адрес: https://sciup.org/148315620
IDR: 148315620 | УДК: 8.512.212'34
Текст научной статьи Фонетические закономерности в баргузинском говоре эвенкийского языка
Баргузинский говор по существующей классификации относится к восточному наречию эвенкийского языка. В говорах данного наречия, в том числе баргу-зинском, в начале слова, как и в южном, преобладает /с/, а в положении между гласными, как в северном, в основном употребляется согласный /h/. Эта закономерность наблюдается как в начале слова, так и в положении между гласным. Так, в баргузинском говоре в начале слова употребляется /с/: сāрэн ‘знает’, сен ‘ухо’, сукэ ‘топор’, а в середине слов между гласными — /h/: аh ӣ ‘женщина’, боhокто ‘почка’ (анат.), ōha ‘камус’.
По основным фонологическим признакам баргузинский говор современного эвенкийского языка имеет как общие, так и отличительные черты с литературным эвенкийским языком.
В современном эвенкийском языке 11 гласных фонем /а/, /ā/, /о/, /ō/, /и/, /ӣ/, /у/, /у/, /э/, /э/, /е/, 18 согласных фонем: /б/, /р/, /г/, /д/, /д'/, /й/, /к/, /л/, /м/, /н/, /н'/, /ц/, /п/, /р/, /с/, /т/, /h/, /ч/.
В отличие от гласных литературного эвенкийского языка в баргузинском говоре имеется краткая фонема /е/ [4, с. 5].
Гласные и согласные фонемы противопоставлены друг другу и используются для образования и различения звуковых оболочек значимых единиц языка: слов и морфем. Фонематический статус как гласных, так и согласных фонем подтвер- ждается их независимостью. Большинство гласных и согласных фонем не имеют позиционных ограничений в слове: встречаются в начале, середине, конце слова. Исключения составляют гласная /э/, которая встречается только в середине и конце эвенкийских слов, согласная фонема /р/ не встречается в начале эвенкийских слов, в конце слов никогда не употребляются согласные фонемы /б/, /д/, /д'/, /н'/, /ч/, /Н/.
На основании дистрибуции согласных также можно констатировать, что в баргузинском говоре нет стечения согласных ни в начале, ни в конце словоформ. Внутри слова допускается стечение двух качественно одинаковых (гомоорган-ных или геминированных) согласных, как в корне слова: гемми ‘потом’, дуннэ ‘земля’, олло ‘рыба’, так и на стыке морфем: сурум-мен ‘тотчас ушел’, гун-нэ ‘сказав’, ол-ла ‘стали делать’. На стыке корня с суффиксом могут быть и другие согласные: бикит-ту ‘на стойбище’, дяв-ва ‘лодку’, угир-рэн ‘он поднял’.
Внутри словоформ в баргузинском говоре существует определенный порядок комбинирования. Далеко не все согласные могут вступать в комбинации с любым другим согласным и занимать в комбинациях, как первое, так и второе место. Так, если согласные /м/, /н/ имеют сочетаемость с 11 фонемами, то согласный [ у ] сочетается только с одним согласным /н'/. Согласная фонема /Н/ внутри слова не сочетается ни с одной согласной, т. е. она может быть только в положении между гласными. Согласный /д'/ никогда не употребляется перед согласными, только в качестве второго компонента может следовать за / в /, /г/, /й/, /д/, /н/, /ц/, /р/ .
О некоторых особенностях фонем баргузинского говора.
В вокалической системе баргузинского говора выделяется фонема, обозначаемая буквой <э>. Трактовка данной фонемы разная. Так, в говорах северного наречия, это в наканновском, качугском, илимпийском, данная фонема характеризуется как очень открытая фонема, приближающаяся по звучанию к /о/: мэнэкэн [ монокон ] «я сам», сэксэ [ соксо ] ‘кровь’. Эти говоры отнесены к окающим [5, с.14]. Как считает В. А. Горцевская, это характерно и баргузинскому говору [4, с. 7]. По данным наших экспериментальных исследований, в современном баргузинском говоре эта фонема характеризуется как /а/: [ манэкан ] ‘я сам’, [ сакса ] ‘кровь’. Вместе с тем часть эвенков тэпкэгирского рода, имеющих генетические корни от оленных эвенков-орочонов, произносят /о/: [ монокон ] ‘я сам’, [ соксо ] ‘кровь’.
В системе долгих фонем эвенкийского языка выделяется гласная /ē/, которая, по мнению В. И. Цинциус, «как бы несколько обособленная из числа других гласных» [8, с.106]. Ученые-тунгусоведы дифференцируют ее по-разному, особенно по вертикали (ширине раствора), относя ее либо к широким [3, с.14; 5, с. 7–8], либо к узким [8, с.73]. Мы же определяем ее по ширине раствора, то есть по вертикали, как полуширокую по нескольким причинам [1, с. 29-30]. Во-первых, акустически она отличается и от широких, и от узких, сходна с русским [е] между твердым и мягким согласным, как, например, в словах <цепь, шесть> и т. д. Во-вторых, при включении в область гармонии гласных она также стоит несколько обособленно: после слогов с /е/ могут следовать только слоги с /а/, /а/ и с узкими гласными /и/, /й/, /у/, /у/. В-третьих, ограниченное позиционное употреб- ление в словах. Обычно она употребляется в первом слоге и дает смягчение согласным, за исключением <т, д, н>, но не палатализует их: бега ‘месяц, луна’, ге ‘второй, другой’, мēван ‘сердце’, кēтара ‘кривой’, пēю ‘орога’, сēн ‘ухо’. В середине слова и в конце слов данная гласная встречается редко: колēмтэ ‘карась’, орēвȳн ‘берестяная труба для охоты на изюбра’, кормē ‘подол’, чиē ‘хвоя’. В основном, конечная <е> употребляется в междометиях: кире ‘Фу, дрянь!’, нюмуре ‘Ой, щекотно!’.
Долгая фонема /ē/ имеет и краткую пару /е/, которая как самостоятельная фонема в эвенкийском литературном языке не классифицируется учеными-эвенковедами. Но в говорах краткая фонема /е/ дифференцируется и встречается в словах во втором слоге: куре ‘ограда’, корме ‘подол платья’. Это в некоторых говорах южного наречия [3, с.14], в баргузинском говоре [4, с.5].
Фонема /β/ в баргузинском говоре характеризуется как плоскощелевая губногубная [β], в некоторых южных говорах эвенкийского языка определяется как круглощелевая [ω]. Сравнить: в русском языке эта фонема определяется как губно-зубная [в].
В консонантной системе баргузинского говора выделяется фарингальный / h /, который многими учеными-тунгусоведами трактуется по-разному. Г. М. Василевич располагает его в таблице согласных как переднегортанный проточный глухой [3, с. 21]. В литературном языке, считает О. А. Константинова, согласный /х/ заднеязычный щелевой глухой, в абсолютном начале слова фарингализуется, в конце слов не бывает [5, с. 23]. А.Ф. Бойцова отмечает, что «в отличие от русского, в эвенкийском языке фонема /х/ — переднегортанная (фарингальная)» [2, с. 197]. В баргузинском говоре, по нашим экспериментальным данным, произношение заднеязычного щелевого глухого [x] не характерно для эвенкийского языка, мы считаем, данный согласный /х/ ошибочно считается фонемой эвенкийского языка и вместо него в таблицу согласных должна включаться фарингальная фонема /Н/. В графике эвенкийского языка фонему /Н/ принято обозначать буквой <х>.
В баргузинском говоре, также как и литературной основе современного эвенкийского языка в системе гласных действуют такие фонетические процессы, как гармония гласных, редукция гласных, в системе согласных — ассимиляция согласных, синкопа. Но в отличие от некоторых говоров в нем отсутствуют стечение гласных, отпадение и выпадение гласных, метатеза, диссимиляция согласных.
Сингармонизм (более узкое его обозначение — гармония гласных) — одно из важнейших суперсегментных явлений, играющих большую роль в организации слова.
В современном эвенкийском языке, считает В. И. Цинциус, «артикуляционная четкость противоположения гласных одного ряда ("заднего") гласным другого ряда ("переднего") стёрта» [8, с. 121]. Так, в пределах одного слова в эвенкийском языке можно наблюдать смешение гласных различных рядов: ōдавэр ‘чтобы сделать (самим многим)’, орондулāвэр ‘к своему (многих) оленю’, т. е. в одном слове употреблены гласные переднего ряда /а/, /ā/ заднего ряда /о/, /ō/, среднего ряда /э/.
Но это лишь кажущееся смешение. Оно объясняется тем, что в эвенкийском языке гармония гласных характеризуется как слоговая или ступенчатая, в отличие от сингармонизма, распространяющегося на целое слово, как это наблюдается в бурятском языке. Например: мблакйттулавэр ‘на свою (многих) лесосеку’. На данном примере мы наблюдаем, что влияние одного гласного на последующие распространяется до первого широкого долгого гласного, который, в свою очередь, оказывает влияние на последующие за ним гласные.
Широкие гласные эвенкийского языка делятся на две неравные по количеству группы: 1) /а/, /а/, /о/, /о/ (твердый ряд); 2) /э/, /э/ (мягкий ряд).
По закону гармонии за гласными твердого ряда должны следовать широкие гласные /а/, /а/ (для /о/ — /о/, /о/). Но здесь происходит нарушение гармонии: долгий /а/ частично «сдвинут» в сторону мягкого ряда, потому что он требует после себя широкий краткий /э/ вместо ожидаемого /а/. Например: haвa ‘работа’ (им.п.) — haвa-вэ ‘работу’ (вин.п.), но при последующем долгом широком равновесие восстанавливается: haea-ван ‘его работу’ (вин.п. с притяж.суф. 3-го л.ед.ч.).
Потому в эвенкийском языке суффиксы с широкими гласными не имеют единого стабильного вида, а имеют три варианта. Это суффиксы винительного падежа -ва/-вэ/-во , местного падежа -ла/-лэ/-лб , суффикс несовершенного вида глаголов -дя/ -де/-дё и др. Например: нанна-ва ‘шкуру’ (вин.п.) — нанна-ла ‘на шкуру’ (мест. п.); того-во ‘огня’ (вин.п.) — того-лб ‘в огонь’ (мест. п.); эмкэ-вэ ‘люльку’ (вин.п.) — эмкэ-лэ ‘в люльку’ (мест. п.).
Узкие гласные /и/, /ӣ/, /у/, /ȳ/ образуют третью, нейтральную, группу. В позиции гласных непервых слогов они постоянны, но они не безразличны к характеру широкого гласного последующего слога в роли гласных корневых. Ср.: иллэ ‘тело’ — иллэвэ ‘тела’ (вин.п.), но илан ‘три’ — иланма ‘трех’ (вин.п.); hутэ ‘дитя’ — hутэвэ ‘дитя’ (вин.п.), но hутaмa ‘огненный’ — hутaмaвa ‘огненного’ (вин.п.).
Причина данных различий в том, что в историческом прошлом были две различные фонемы /и/ и две различные фонемы /у/ , которые гармонировали с гласными разного ряда: твердорядным /а/ и мягкорядным /э/. И в материалах Н.Н. Поппе по баргузинскому говору мы находим указания на имеющиеся в баргузинском говоре отличия между двумя гласными /и/ и двумя гласными /у/ [4, с.9-11]. Но в современном эвенкийском языке существует только одна гласная фонема /и/ и одна гласная фонема /у/ .
Таким образом, сочетаемость гласных по рядам не является основным признаком сингармонизма в эвенкийском языке. Для него характерен третий тип сингармонизма — гармония гласных по степени раствора , т. е. противопоставление широких и узких гласных.
В эвенкийском языке, кроме гармонии гласных по степени раствора (противопоставление широких и узких гласных), действует и лабиальная (губная) гармония. Она определяется только одной фонемой /о/ (краткой или нормальной, по определению Цинциус), после которой следует широкий губной /о/: того ‘огонь’ (им.п.) — тогово ‘огня’ (вин.п.). Но и это ограниченное действие губного сингармонизма нейтрализуется, если слогу с широким гласным предшествует слог с узким гласным /и/, /у/. Например, того-вор ‘своего (многих) огня’ (вин.п. без- личн.-притяж. ф. мн. ч.), но того-ду-вар ‘в своем (многих) огне’ (дат. п. безличн.-притяж. ф. мн. ч.), того-ткй-вар ‘к своему (многих) огню’ (направ. п.).
В целом эвенкийское слово подчиняется закону гармонии гласных. Эти правила сочетаемости гласных в слове сформулированы Е. Ф. Афанасьевой [1, с.6869].
Появление гласного в результате эпентезы или протезы в эвенкийском языке наблюдается при перегласовке заимствованных слов. Так, в заимствованиях, например, из русского языка словах, имеющих в своем составе стечение согласных в начале или конце слова, что недопустимо в эвенкийском слове, приставляется или вставляется гласный между двумя согласными: стол — остол , платок — пулат , Прасковья — Паруска . Или же, например, в эвенкийском языке отсутствуют слова с начальным <р> , значит, протетический гласный появляется в абсолютном начале заимствованных слов, начинающихся с этого согласного: уру-бул ‘рубль’, арама ‘рама’.
В системе согласных в эвенкийском языке различают прогрессивную и взаимную ассимиляцию, синкопу. Прогрессивная ассимиляция наблюдается в алломорфах морфем локативных (дательного, отложительного, местного, продольного) падежей когда начальные звонкие согласные суффиксов перечисленных падежей при сочетании с глухим [т] корня становятся глухими: бикит-ду > бикит-ту ‘в стойбище’ (дат. п.), бикит-дук > бикит-тук ‘от стойбища’ (мест. п.), бикит-дули > бикит-тули ‘по стойбищу’ (прод. п.); в алломорфах морфемы глаголов III будущего времени, когда звонкий согласный / д'/ при сочетании с глухими /к, с, п, т/ становится глухим: ис-дяца-н > ис-чаца-н ‘он дойдет’, кик-дяцан > кик-чаца-н ‘он укусит’, умунуп-дяца-тын > умунуп-чаца-тын ‘они объединятся’, тэт-децэ-н > тэт-чэцэ-н ‘он оденет’; в алломорфах морфемы винительного падежа, когда согласный /р/ при сочетании с носовыми /н/, / у /, /м/ переходит в носовую фонему, сонантизируется: ами у н-ва > ами у н-ма ‘отца’, укэ уу ц-вэ > укэ у ц-мэ ‘гагару’, дылам-ва > дылам-ма ‘чистого, звонкого’; в алломорфе морфемы подобия, сходства, когда согласный /г/ при сочетании с носовыми /н/, / у / переходит в носовую фонему: мурин-гачин > мурин-цачин ‘как лошадь’, лац-гэчин > лац-цэчин ‘как ловушка’.
В отдельных говорах отмечаются случаи прогрессивной ассимиляции. Например, при присоединении к глухому согласному основы суффиксы винительного падежа и возвратно-притяжательного суффикса: угчак-ва > угчак-па ‘верхового оленя’, угчак-ви > угчак-пи ‘своего верхового оленя’; при присоединении к суффиксу отложительного падежа возвратно-притяжательного суффикса: дю-дук-ви > дю-дук-пи ‘от своего дома’ и т. д.
В области согласных эвенкийского языка такое фонетическое явление, как синкопа (от греч. synkope — сокращение) встречается в двух формах:
-
а) слияние согласных наблюдается при присоединении суффиксов к основе слова: конечный согласный основы сливается с начальным согласным суффикса в результате ассимиляции: гун -рэ > гун-нэ > гунэ сказали, ун-рэ > ун-нэ > унэ растаяли;
-
б) выпадение звука или группы звуков в грамматических формантах, в основном конечного носового согласного /п/ именных и глагольных основ, который
выпадает при присоединении некоторых суффиксов: орон-ды > ороды ‘олений’ (-ды — суффикс прилагательного); илан-тал > илатал (по три) (-тал — суффикс распределительных числительных); орон-чи > орочи ‘имеющий оленей’ (-чи — суффикс обладания); дян-гИ >дягИ ‘десятый’ (-ги — суффикс порядковых числительных) и т. д..
Звуковые единицы языка, являясь элементами фонологической системы, связаны между собой не только отношениями противоположения, но и особенностями их сочетаемости, а также отношениями линейного расположения на синтагматической оси. Нами проанализированы возможности и ограничения сочетаемости гласных и согласных фонем баргузинского говора эвенкийского языка, правила синтагматики фонологических единиц. Все это в совокупности составляет неповторимый и своеобразный звуковой облик данного говора эвенкийского языка.
Список литературы Фонетические закономерности в баргузинском говоре эвенкийского языка
- Афанасьева Е. Ф. Фонология и фонетика эвенкийского языка: учебное пособие. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2010. 116 с.
- Бойцова А. Ф. Сравнительная характеристика согласных звуков эвенкийского и русского языков // Известия АПН РСФСР. 1952. №40. С. 185–209.
- Василевич Г. М. Очерк грамматики эвенкийского (тунгусского) языка. Л.: Учпедгиз, 1940. 196 с.
- Горцевская В. А. Характеристика говора баргузинских эвенков (По материалам Н.Н. Поппе). М.; Л.: Учпедгиз, 1936. 104 с.
- Золхоев В. И., Афанасьева Е. Ф. Функционирование системы фонем эвенкийского языка. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 1999. 54 с.
- Константинова О. А. Эвенкийский язык. Фонетика. Морфология. Л.: Наука, 1964. 274 с.
- Матусевич М. И. Очерк системы фонем ербогачёнского говора эвенкийского языка на основе экспериментальных данных // Учёные записки ЛГУ. 1960. Т. 237. С. 132–169.
- Романова А. В., Мыреева А. Н. Очерки учурского, майского и тоттинского говоров эвенкийского языка. Л.: Наука, 1964. 170 с.
- Цинциус В. И. Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков. Л., 1949. 342 с.