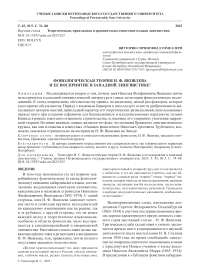Фонологическая теория Н. Ф. Яковлева и ее восприятие в западной лингвистике
Автор: Томеллери В.С.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика
Статья в выпуске: 5 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается вопрос о том, почему имя Николая Феофановича Яковлева почти не встречается в западной лингвистической литературе в главах по истории фонологических исследований. К этому неприятному обстоятельству привел, по-видимому, целый ряд факторов, которые здесь кратко обсуждаются. Наряду с языковым барьером к ним следует отнести разбросанность высказанных автором мыслей, прикладной характер его теоретических размышлений, использованных прежде всего при создании алфавитов для бесписьменных и младописьменных народов (не только) Кавказа в рамках советского языкового строительства, и, наконец, его умеренное увлечение марровской теорией. Не менее важным, однако, является тот факт, что позиции Пражского лингвистического кружка, как они изложены в известных «Основах фонологии» Николая Сергеевича Трубецкого, возможно, повлияли отрицательно на восприятие Н. Ф. Яковлева на Западе.
История русского и советского языкознания, фонология, н. ф. яковлев, западная лингвистика, пражский лингвистический кружок
Короткий адрес: https://sciup.org/147241454
IDR: 147241454 | УДК: 81'1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.923
Текст научной статьи Фонологическая теория Н. Ф. Яковлева и ее восприятие в западной лингвистике
В этом году исполняется сто лет первому подробнейшему фонетическому (а также фонологическому) описанию кабардинского языка, составленному выдающимся советским лингвистом, кавказоведом и языковым строителем Николаем Феофановичем Яковлевым (1892–1974). С одной стороны, имя Н. Ф. Яковлева занимает почетное место в созвездии крупных исследователей по кавказскому языкознанию как на родине, так и за рубежом, с другой стороны, его не менее важный вклад в теоретическое языкознание, особенно в области фонологии, мало кем признается в западноевропейской и американской лингвистике. Настоящая статья ставит целью выявление причин такого разногласия в восприятии Н. Ф. Яковлева, или, правильнее, почти полного отсутствия западных голосов о нем.
«Жуткое чувство испытывает тот, кому приходится заниматься историей науки в России: смелые начинания, глубокие мысли, редкие таланты, блестящие умы, даже кропотливый и упорный труд, все это встречается с избытком; и тут же приходится отмечать, как все обрывается: длинные ряды “первых” томов, “первых” выпусков, которые никогда не имели преемников; широкие замыслы, застывшие как бы на полуслове, груды ненапечатанных, полузаконченных рукописей. Громадное кладбище неосуществленных начинаний, несбывших-ся мечтаний»2.
Вышеприведенные слова, написанные академиком Сергеем Федоровичем Ольденбургом (1863–1934) в смутное послереволюционное время, хорошо характеризуют яркую личность главного героя настоящей статьи – Н. Ф. Яковлева. Трагическая судьба талантливого ученого заключается прежде всего в прекращении его научной деятельности после выступления И. В. Сталина летом 1950 года, во время «свободной» дискуссии по вопросам советского языкознания в связи с пресловутым Новым учением о языке академика Николая Яковлевича Марра (1865–1934). В предисловии к «Таблицам фонетики кабардин-
ского языка» (1923), о которых пойдет речь ниже, Н. Ф. Яковлев, подчеркивая исключительно важное значение своего учителя и покровителя, академика Алексея Александровича Шахматова (1864–1920), при выборе предмета своих лингвистических занятий, то есть северокавказских языков, не скрывал свою искреннюю благодарность академикам-ориенталистам (в том числе Н. Я. Марру) за их щедрую помощь:
«Первым, кто натолкнул меня на мысль заняться живыми яфетическими языками Северного Кавказа, был незабвенный ак. А. А. Шахматов. В дальнейших научных предприятиях своих я пользовался всегдашним исключительным вниманием и поддержкой ак. Н. Я. Марра и ак. С. Ф. Ольденбурга, которым всецело обязан своими достижениями в данной области»3.
Не являясь, однако, правоверным приверженцем Н. Я. Марра, а лишь частично соприкасаясь с его теорией [10: 557], Н. Ф. Яковлев под натиском «аракчеевского режима» в языкознании начал незадолго до дискуссии в газете «Правда» выпускать работы, в которых все чаще развивались некоторые марровские положения, как, например, острая и односторонняя критика традиционного историко-сравнительного языкознания4, отрицание понятия праязыка, стадиальный характер развития языков и единство глоттогонического процесса. Наряду с обычными в то время пустословными дифирамбами в сторону создателя «мнимой» марксистской лингвистической теории5, Н. Ф. Яковлев действительно принял некоторые идеи Н. Я. Марра, которые, правда, находились достаточно далеко от его прямых лингвистических интересов6. Итак, с середины 1940-х годов появились не бесспорные работы обобщающе-типологического толка о неслучайном характере целого ряда структурных аналогий между северокавказскими, чукотско-камчатскими и некоторыми северо-американскими языками [21] на примере эргативной конструкции предложения и других сходных явлений7, а также научнопопулярные книги о возникновении человеческой речи [11], [12], из которых работа 1945 года пользовалась огромнейшим успехом в стране и за рубежом, выйдя в переводах на разные языки Советского Союза и Восточной Европы, а также на немецкий [47]. В целом пик исследований Н. Ф. Яковлева приходился на 1920-е годы – разгар того социолингвистического направления в советской лингвистике, которое вошло в историю под названием «языкового строительства» [4: 7]; публикации же последующих лет, в том числе и кавказоведческие, намного уступали пре-дыдущим8. Беда автора в том, что он в начале
1930-х годов подвергался проработке со стороны марристов, не считавших его своим человеком, тогда как в начале дискуссии о советском языкознании, открывшейся статьей профессора Тбилисского университета им. Сталина Арнольда Степановича Чикобавы (1898–1985) [20], Н. Ф. Яковлев занял промарровскую позицию, отправив редакции газеты письмо в защиту Нового учения о языке, которое, однако, не было опубликовано [1: 154]. После неожиданного переворота из-за вмешательства Сталина в дискуссию уже нечем было защищать теорию покойного академика, и Н. Ф. Яковлев был вынужден публично признать свои прежние ошибки [24]. Придерживаясь мудрости латинского изречения – «Всякому человеку свойственно ошибаться, но только глупому – упорствовать в своей ошибке» ( Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis perseverare in errore ), он осознал лженаучные положения Н. Я. Марра и свои некритические ссылки на его грубейшие ошибки и, следовательно, отрекся от некоторых своих работ, собственных и в соавторстве [11], [22], [23], [26].
В новой обстановке, сложившейся после разгрома марризма, принципиальная и упрямая природа Н. Ф. Яковлева, чуждая всякому лицемерию и притворству, оказалась роковой для ученого [10: 559]. Смело сопротивляясь очередной перестройке института и выявляя упорную самостоятельность, он по обвинению в верности попавшей в опалу теории (то есть как «неразоруживший-ся маррист») был уволен с работы и лишен права преподавания; вследствие этого он сошел с ума и перестал заниматься наукой, прожив до своей кончины в постоянном состоянии психической болезни [2: 775]. Итак, многие его работы не были доведены до конца: они либо оставались до сегодняшнего дня в рукописном виде, либо бесследно исчезли и, возможно, навсегда утрачены. Но даже опубликованные или доступные в архивах его работы все еще ждут своего упорядочения, описания и (пере)издания. Более пятидесяти лет тому назад Лев Рафаилович Кон-цевич (род. 1930), выделяя существенное значение вклада Н. Ф. Яковлева в науку, писал:
«Его перу принадлежит более 80 печатных трудов, в том числе 15 книг. Однако судьба около двух десятков рукописей до сих пор неясна. Лучшей наградой ученому будут правильная, справедливая оценка его взглядов и издание его избранных работ, куда должны войти и рукописи, ценность которых бесспорна для общего и кавказского языкознания» [10: 559].
Несмотря на то что личность и научная деятельность Н. Ф. Яковлева в последние десятилетия все больше и больше привлекали внима- ние российских и зарубежных исследователей (см., например, [1], [2], [28], [48], [50]), до сих пор, к сожалению, отсутствует надежный библиографический указатель его работ. В приложении к своей юбилейной статье Л. Р. Концевич ограничился «списком основных печатных работ» ученого, включающим лишь 38 позиций. В библиографии, вышедшей в качестве приложения к сборнику научных статей под редакцией Юнуса Дешериевича Дешериева (1918–2005), приводятся всего 68 опубликованных и 7 неопубликованных работ [8]. Следует при этом отметить, что первый список Л. Р. Концевича остался неизвестным Ю. Д. Дешериеву или сознательно не был учтен им, так как библиография, которой заканчивается сборник, основывается исключительно на архивном материале (Архив Академии наук СССР, ф. 411, оп. 39, ед. хр. 2061, л. 21–23 – составитель Г. А. Калимова)9. Наряду с этим двойная трагедия крупного исследователя, дважды умершего (по удачной формулировке [1]), становится тройной, если учесть тот на первый взгляд непонятный и даже возмущающий факт, что на Западе, за пределами кавказоведения, его мало кто знает и уважает. Если трудно оспаривать мнение о том, что фонология, хотя бы в зачаточном виде10, зародилась в России [4: 183], [32: 7], именно в 1920-е и 1930-е годы «международный характер обмена идеями и научными достижениями» [38: 91] между молодым Советским Союзом и Западной Европой принимал идеологическую подоплеку непримиримого противопоставления, постепенно создававшую труднопреодолимые преграды. Таким образом, не так уж удивительно, что на Н. Ф. Яковлева, чьи работы, по оценке Александра Александровича Реформатского (1970–1978), сыграли «большую роль для укрепления взглядов Московской фонологической школы» [17: 16]11, не указывают давние и более современные труды по истории фонологических учений (ср., например, [27: 86–109], [34], [46]). В международной энциклопедии по лингвистике к тому же основой почти всех фонологических разысканий считается возникновение американского и европейского структурализма, связанное с именами Леонарда Блумфилда (1887–1949) и Эдуарда Сепира (1884–1939) в США, Романа Осиповича Якобсона (1896–1982) и князя Николая Сергеевича Трубецкого (1890– 1939) (бывших членов, вместе с Н. Ф. Яковлевым, Московского лингвистического кружка [1: 143]) в Европе:
«During the first half of the 20th century, the most significant intellectual developments in the field were the emergence of American and European structuralism as the basis for nearly all phonological research. Particularly influential figures of this period were Bloomfield and Edward Sapir in the United States, and Roman Jakobson and Nikolai S. Trubetzkoy in Europe» [44: 328].
Исключением12 является энциклопедическая статья Ольги Тихоновны Молчановой (род. в 1938), в которой выделяются два важных аспекта научной деятельности Н. Ф. Яковлева. Это, во-первых, лингвистически последовательная теория фонемы и, во-вторых, математическая формула, применявшаяся к созданию алфавитов для бесписьменных языков Кавказа:
«Since 1920 Jakovlev has organized and led fieldwork trips to the Caucasus to study Caucasian languages that did not have written tradition and were used only for oral communication. In 1923, on the basis of a linguistically consistent theory of a phoneme worked out by him, Jakovlev devised a mathematical formula for inventing systems of characters with which Caucasian languages could be written. It opened up new horizons for 70 Caucasian peoples for whom a new alphabet was first introduced on the basis of Latin and later Cyrillic» [45: 88].
Удивительным образом, однако, первая его работа, процитированная в ее библиографии, это «капитальный» [1: 142], «прекрасный» [6: 3] и «весьма содержательный» [5: 10] этнографический очерк об ингушах13, который был удостоен перевода на ингушский язык14. В списке литературы отсутствуют именно те работы, в которых Н. Ф. Яковлев изложил свои теоретически и практически важные положения: монография под «скромным названием» [1: 142] «Таблицы фонетики кабардинского языка»15 и не менее известная статья «общетеоретического и прикладного характера» [5: 9] «Математическая формула построения алфавита»16, которая определила
«программу его активной деятельности во ВЦК НА (Всероссийский центральный комитет нового алфавита) по созданию латинизированных алфавитов для бесписьменных языков и по совершенствованию уже существовавших систем письма» [9: 362]17.
«Таблицы фонетики кабардинского языка» представляют собой основательное описание восточно-черкесского языка18, которое было встречено с положительными отзывами со стороны кавказоведов в Советском Союзе и за рубежом. Н. С. Трубецкой, узнав о «Таблицах» из рецензии Льва Ивановича Жиркова (1885–1963)19, опубликованной в журнале «Новый Восток»20, в письме Р. О. Якобсону от 6 ноября 1924 года спрашивал коллегу об адресе Н. Ф. Яковлева, так как хотел «просить его прислать мне ту его книгу, о которой имеется рецензия в том же № “Нового Востока”, а, кстати, еще раз попытаться оттащить его от Марра» [37: 75]. Через год он выпустил свой отзыв во французском Бюллетене Парижского лингвистического общества21: по его мнению, особой похвалы заслуживали «светящаяся точность, исключительная наблюдательность и безупречная строгость метода» рецензируемой работы –«précision lumineuse, observation exceptionnel, grande sévérité de méthode»22. Оба русских рецензента указывали на то, что «Таблицы» содержали очень ценные сведения не только для кавказоведения, но также для общей фонетики:
«Впервые этот язык получает научно-изложенное учение о его звуках, которые сами по себе представляют много интересного и для фонетики общей, благодаря известному богатству северо-кавказских языков в звуковом отношении, [так!] Вот почему вышедшие два выпуска, несомненно, будут встречены с интересом в кругах языковедов и за-границей»23.
Такой оптимистический прогноз Л. И. Жиркова, увы, не сбылся, несмотря на то немаловажное обстоятельство, что в работе, по словам Н. С. Трубецкого, имелись интересные наблюдения фон<ем>ологического24 характера:
«On trouvera aussi dans cet ouvrage des idées intéres-santes sur la théorie générale de la “phonémologie”: en principe M. Jakovlev se déclare partisan des théories de MM. Baudouin de Courtenay et Ščerba, tout en les complétant par quelques idées nouvelles et fécondes (p. 64–76)»25 – В этой работе можно также найти интересные мысли об общей теории «фонемологии»: в принципе г. Яковлев объявляет себя сторонником теорий г-н Бодуэна де Куртенэ и г-н Щербы, дополнив их некоторыми новыми и плодотворными идеями.
Какими новыми и плодотворными идеями сторонник Ивана Александровича Бодуэна де Куртенэ (1845–1929) и Льва Владимировича Щер-бы (1880–1944) дополнял их теории, Н. С. Трубецкой не считал нужным сообщить. Кроме этого, оба «западноевропейских» кавказоведа упрекали Н. Ф. Яковлева в употреблении чрезвычайно сложной и неудобной для чтения транскрипционной системы, восходящей к известной яфе-тидологической (аналитической) транскрипции Н. Я. Марра26:
«Le plus grand default de l’ouvrage de M. Jakovlev est la transcription choisie par son auteur pour rendre les phonèmes du qabardi. C’est la fameuse transcription “yaphétidologique” inventée par M. Marr. Une transcription est toujours affaire de convention. Mais pour être bonne une transcription doit répondre à certaines exigences. Celle de M. Marr est franchement mauvaise sous tous les rapports: compliquée, très incommode au point de vue typographique, difficile à lire, difficile à retenir dans la mémoire à cause du sens inusité attribué à certaines lettres, et très laide au point de vue esthétique. Il est bien dommage que dans son bel ouvrage M. Jakovlev se soit servi de cette transcription incommode pour l’imprimeur et déconcertante pour le lecteur»27 – Самым большим недостатком работы г-на Яковлева является транскрипция, выбранная ее автором для передачи кабардинских фонем. Это знаменитая «яфетидологическая» транскрипция, придуманная г-ном Марром. Транскрипция всегда является делом конвенции. Но чтобы быть хорошей, транскрипция должна соответствовать определенным требованиям. У г-на Марра, правда, она плоха во всех отношениях: сложна, очень неудобна типографически, трудна для чтения, трудна для запоминания из-за необычного значения, приписываемого некоторым буквам, и очень безобразна с эстетической точки зрения. Жаль, что в своей прекрасной работе г-н Яковлев использовал эту транскрипцию, неудобную для типографа и сбивающую с толку читателя.
Гораздо более сдержанна, но не менее принципиальна и сурова оценка немецкого кавказоведа Адольфа Дирра (1867–1930):
«Nicht recht einzusehen ist, warum Verfasser für diese Arbeit das Marrsche “japhetidische” Alphabet gewählt hat»28 – Не совсем понятно, почему автор выбрал для этой работы «яфетидологический» алфавит Марра.
Восприятию яковлевского вклада в фонологическую теорию не могла способствовать и статья о черкесских диалектах, появившаяся в журнале «Caucasica» в немецком переводе главного редактора журнала А. Дирра29; гораздо большую роль, чем языковой барьер ( rossica non leguntur ), сыграли в данном случае узкая кавказоведческая тематика и описательный характер работы.
Фонологическая концепция Н. Ф. Яковлева, таким образом,
«была отражена в опубликованных трудах далеко не полностью и не получила большой известности за рубежом, тогда как более разработанные теории Н. Трубецкого и Р. Якобсона стали значительно более популярными» [2: 776].
Этот тезис нуждается лишь в совсем маленькой поправке, скорее переформулировке. Эту концепцию за рубежом хорошо знали, ее даже восприняли и развивали русские «эмигранты»-лингвисты, но уже в новом духе Пражской фонологической школы, для которой Московский лингвистический кружок послужил отчасти прообразом [9: 362].
В «Основах фонологии» Н. С. Трубецкой, определяя фонемы как «фонологические единицы, которые с точки зрения данного языка невозможно разложить на более краткие следующие друг за другом фонологические единицы» [19: 42]30, ссылается на Л. В. Щербу, Н. Ф. Яковлева и Р. О. Якобсона. В этой хронологической последовательности понятие фонемы получает свое все более точное определение, как будто достигая полного и окончательного усовершенствования в дефиниции, предложенной в Пражском лингвистическом кружке. Через несколько страниц автор «Основ фонологии» кается и просит прощения за свой прежний психологический подход, выражавшийся в употреблении термина «звукопредставление» (Lautvorstellung), явно восходящего к учению И. А. Бодуэна де Куртенэ и его учеников. На его взгляд, избавлением от элементов психологизма понятие фонемы обязано именно Н. Ф. Яковлеву. Таким образом, в его понимании фонема, первоначально определявшаяся в работах И. А. Бодуэна де Куртенэ и Л. В. Щербы, у Н. Ф. Яковлева, исходившего из «позиций социальной обусловленности языка» [5: 10], освобождается от субъективно-психологического элемента, доходя в этой очищенной форме до конечной точки развития в рамках Пражского лингвистического кружка в 1930-х годах, а затем Московской фонологической школы [14: 212]. Схематически упрощая ход развития в интерпретации Н. С. Трубецкого, можно нарисовать прямую (или кривую?) линию следующим обобщающим образом:
-
• Фонемы как звукопредставления – И. А. Бодуэн де Куртенэ, Николай Вячеславович Крушев-ский (1851–1887), Л. В. Щерба.
-
• Преодоление психологизма, выявление социального статуса фонемы и приобретение теорией последовательно синхронно-функционального вида при поиске лучшего способа для письменной передачи фонем – Н. Ф. Яковлев (фонемо-логия).
-
• Чисто теоретическая фонология – Р. О. Якобсон, Н. С. Трубецкой.
Раскаяние Н. С. Трубецкого, который в своих работах до конца 1920-х годов неоднократно прибегал к выражению «звукопредставление» (Lautvorstellung) [50: 1364], явно выглядит терминологическим и теоретическим переворотом, который, возможно, произошел у него под влиянием Н. Ф. Яковлева, прямым или опосредованным (через Р. О. Якобсона)31.
Развернутое определение фонемы встречается уже в хорошо известных Н. С. Трубецкому «Таблицах»:
«Таким образом, индивидуальное сознание говорящего едва ли может служить особенно надежным базисом фонемологических32 изысканий, да фактически не оно и является этим базисом в работах последователей теории фонем. Таким базисом является место и роль отдельных звуковых моментов в системе “смысловых”, т. е. морфологических и лексических элементов языка, а собственно психофонетические наблюдения в области различения отдельных звуковых моментов доставляют сюда лишь вспомогательный материал»33.
Н. С. Трубецкой, однако, предпочел ссылаться на другую, более позднюю статью Н. Ф. Яковле-ва34, в которой вводится в научный оборот математическая формула для построения алфавита:
«…eine von psychologistischen Elementen bereits ge-reinigte Definition (определение фонемы, уже очищенное от элементов психологизма): unter Phonemen verstehen wir jene Schalleigenschaften, die sich als kürzeste zur Dif-ferenzierung von Bedeutungseinheiten dienende Elemente des Redeflusses aus diesem herauslösen lassen»35 – Точнее говоря, мы должны признать фонемами те звуковые отличия, которые выделяются в речи как ее кратчайшие звуковые моменты в отношении к различению значимых элементов языка36.
Такой выбор, по мнению Ю. Д. Дешериева, не был случаен, а как будто объясняется тем, что в «Таблицах» Н. Ф. Яковлев «еще полностью не освободился от влияния психологизма И. А. Бодуэна де Куртенэ и Л. В. Щербы в разработке теории фонемы» [5: 15].
Математическая формула должна была послужить точкой отсчета при составлении новых алфавитов для бесписьменных или младописьменных языков СССР. Благодаря переносу обозначения фонологического признака мягкости, то есть противопоставления твердых и мягких согласных в русской кириллице, на гласные буквы [па vs. пя, ба vs. бя и т. п.] допускается «дальнейшее упрощение алфавита путем уменьшения количества букв в нем»37. Соблюдение экономического принципа при соотношении числа букв и фонем возможно при том условии, что в данном языке имеется «многочисленная группа парно различаемых согласных фонем и сравнительно немного гласных фонем, варианты которых могут сочетаться с вышеуказанными парными согласными»38. Абхазско-адыгские языки, к которым относится и кабардинский, отличаются бедным набором гласных при весьма богатой системе согласных фонем. Нельзя не заметить преимущественно прикладной характер глубоких фонологических соображений Н. Ф. Яковлева:
«Вопрос, поставленный нами выше, носит настоящий прикладной характер. Его отношение к теоретической лингвистике должно быть таким же, как отношение теоретической механики к задачам прикладной механики. Когда инженер составляет проект и расчет какого-либо механического сооружения, он может составить его только основываясь на законах и формулах, которые предоставляет в его распоряжение теоретическая механика. Поэтому его проект может быть назван, в полном смысле этого слова, научно обоснованным. В этом случае, как и во всяком другом примере научно обоснованного строительства, мы, составляя проект и расчет, еще до фактического приведения его в исполнение, заранее знаем размеры, прочность и т. д.
проектируемого сооружения. Поэтому научно обоснованное строительство есть в то же время осмысленное, расчетливое и планомерное строительство. В этом и заключается его отличие от всякого другого творчества, по своим результатам хотя бы и удачного, но бессознательного, интуитивного, а потому всегда случайного»39.
Эти соображения освещали насущные вопросы языкового строительства, находясь в основе их конкретного решения [4: 181]. Иными словами, в научных размышлениях Н. Ф. Яковлева наблюдается тесное и органическое сочетание научной теории и общественной практики [6: 3]:
«В Союзе впервые установился непосредственный контакт между науками о культуре и практикой культурного строительства. В результате должны были возникнуть и возникают новые отрасли гуманитарных наук, которые с полным правом могут быть названы прикладными гуманитарными науками. К числу последних и относится начатая разработкой в Москве прикладная лингвистика»40.
Именно практическая востребованность теории сказалась отрицательно на восприятии идей Н. Ф. Яковлева за рамками поставленных конкретных задач, особенно когда в 1930-е и 1940-е годы вопросы о создании письменных систем, основанных на латинице, больше не стояли на повестке дня.
С другой стороны, нет никаких сомнений в том, что именно необходимость составления новых алфавитов для бесписьменных языков благоприятствовала развитию теории фонемы и возникновению прикладной лингвистики [7: 19]. Наряду с этим разнообразие кавказских языков и внушительное богатство их консонантизма предоставляли лингвистам непаханое поле для практической и теоретической деятельности:
«Кавказские языки, в частности северо-кавказские, различны в своей системе. Состав звуков, особенно согласных, здесь особенно разнообразен. И это касается в первую очередь языков адыгейской группы (адыгейский, черкесский, кабардинский). Однако, это разнообразие не бесконечно, и при более внимательном изучении этих языков намечаются определенные линии и в развитии их грамматической системы и, в частности, в системе их звуков. Эти-то линии и необходимо было уловить, чтобы определить количество так называемых фонем, т. е. типов звуков, различающих слова и формы языков, и обозначить их достаточно четкими и ясными буквами. Все разнообразие звуков неуловимо. Потребовалось бы громадное количество букв для выражения их различных оттенков, и алфавит принял бы такие размеры, что самое изучение его, чтение и письмо были бы очень затруднительными. Поэтому не по звукам стали потом разрабатывать алфавиты, а по так называемым фонемам, типам звуков, различающим слова и формы. Таких фонем оказалось меньше, и открылась возможность согласования алфавитов при всем разнообразии звуковых выражений»41.
Как мы уже упоминали, в отзыве о «Таблицах» Н. С. Трубецкой указывал на то, что эта работа, на стр. 64–76, представляет интерес для общей фонологической теории, дополняя теории И. А. Бодуэна де Куртенэ и Л. В. Щербы некоторыми новыми и плодотворными идеями. Поскольку он не перечисляет и не обсуждает достижения своего друга и коллеги, стоит заглянуть в те места посмертно изданных «Основ фонологии» (1939), в которых встречаются имя Н. Ф. Яковлева и «Таблицы». Не все случаи, как увидим ниже, относятся прямо к кабардинскому языку.
В разделе, посвященном факультативным и стилистически несущественным вариантам, которые «вообще не несут никакой функции, они заменяют друг друга совершенно произвольно, не изменяя при этом экспрессивной или апеллятивной функции речи» [19: 54]42, Н. С. Трубецкой приводит конкретный пример из кабардинского языка: произношение палатальных смычных, реализуемых то как к -образные, то как ч -образные звуки. В подстрочном примечании ссылка на «Таблицы» дается без указания страницы43. В соответствующем месте автор «Таблиц», приводя примеры разных артикуляций, не выполняющих фонологической функции («фонемологически в языке действительно не-различаемых»), указывал на интересный факт, а именно на «факультативность чередования в речи мгновенных типа средне-твердонебного қ и шипящих аффрикат типа č , частью имеющего, по-видимому, диалектическое значение». Произнося в речи «постоянно (независимо от положения) шипящие аффрикаты», его информанты с уверенностью утверждали, что они «произносят соответственные мгновенные қ , gˌ , qˌ »44, см. также [40: 21, 26]. Из этого Н. Ф. Яковлев сделал важный теоретический вывод «об относительности в каждом отдельном языке порога фонемораз-личения и используемых для этого различения средств»45.
В кабардинском языке имеются три члена градуальной оппозиции в ряду сибилянтов, включающих зубные /s/, /z/, альвеопалатальные /ɕ/, /ʑ/ и постальвеолярные /ʃ/, /ʒ/; и в данном случае работа Н. Ф. Яковлева цитируется без указания страницы, которую мне любезно подсказал А. В. Андронов:
«Особо следует отметить артикуляцию узкощелинного дорсального передне-твeрдонeбного шипящего спиранта. Кончик языка при его образовании свободно опущен до уровня дeсен передних нижних зубов, а расширенная, дугообразно выгнутая кверху спинка передней части языка, прижимаясь боковыми краями к жевательной поверхности верхних зубов (в области малых коренных), образует на переднем твeрдом нeбе довольно узкую (сравнительно со щелеобразованием “ш”) щель значительной длины (относительно большей, чем при образовании “s”). Акустически спирант этот производит на русского впечатление шепелявого звука, среднего между “ш” и “s”. Чисто дорсальный тип шипящего спиранта “ш” нередко звучит полумягким для русского уха. Почти одного с ним места образования (несколько ближе вперед) тоже дорсальный тип шипящей аффрикаты č (ϑ)̣ »46.
Кроме этого, Н. С. Трубецкой выражал свое неудовольствие по поводу термина «согласные с надгортанной экспирацией» в применении к так называемым абруптивным согласным47, считая его тяжеловесным и недостаточно точным; ему казалось предпочтительным называть их «эйективными», как это принято было у английских фонетиков, особенно в традиции аф-риканистики48.
«Таблицы» упоминаются также по поводу существования двух модальных корреляций второй степени в ряде фрикативных, причем опять отсутствует страница и, кроме этого, неверно указан год издания (1932 вместо 1923) как в немецком оригинале, так и во французском, русском, английском и итальянском переводах. Речь здесь идет о тех фонемах, «образованных модификацией основной артикуляции одновременно по признаку звонкости ↔ глухости и надгортанности ↔ подгортанности (тройки соотносительных фонем надгортанной ↔ звонкой ↔ глухой…)»49. Предложенное Н. С. Трубецким определение комбинаторных вариантов фонем и нейтрализации фонологической оппозиции также основывается на Таблицах :
«In bestimmten Lautstellungen werden mehrere pho-nologische Oppositionen aufgehoben, während in gewis-sen anderen alle phonologischen Oppositionen unversehrt bleiben. So entstehen in derselben Sprache Lautstellungen mit minimaler und Lautstellungen mit maximaler Phonem-unterscheidung»50 – «В определенных позициях многие фонологические оппозиции нейтрализуются, тогда как в других положениях все оппозиции сохраняются. Так появляются позиции с минимальным фонемораз-личением и позиции с максимальным фонеморазличе-нием» [19: 271].
В соответствующем месте «Таблиц» Н. Ф. Яковлев заявляет, что он за символы фонемных рядов принял более представительные комбинаторные варианты согласных, встречающиеся в положении наибольшего различения51. Для гласных русского языка это
«междугласное положение в середине слова перед велярными гласными, где различаются ряды глухих, звонких, веляризованных (“твердых”) и палатализованных согласных фонем, тогда как аналогичное положение в исходе слова характеризуется совпадением звонких фонемных рядов с глухими»52.
Русского языка касается также определение разграничительной функции фонем53. В процитированном Н. С. Трубецким месте, однако, Н. Ф. Яковлев ссылается на работу Р. О. Якобсона о чешском стихе в связи со способами объективного выделения границы слов54. Н. С. Трубецкой приводит один пример из русского языка: zvùkabrɯ̆vā(j)icəràzəm , то есть zvuk ăbrɯvā jĭcə rāzəm (фонологически zvuk ăbrĭvajĭcă razăm – звук обрывается разом). Здесь аллофон ə выполняет ограничительную функцию, «образуя по отношению к ударному слогу часть группового сигнала границы слова».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод о том, что причин мало- или неизвестности Н. Ф. Яковлева в западной лингвистике целый ряд:
-
1) языковая проблема ( rossica non leguntur );
-
2) предмет изучения (кавказские языки);
-
3) изложение фонемологических основ по большей части в работах прикладного характера, в которых теоретические соображения служили преимущественно решению практических задач, ускользая, когда эти проблемы утратили актуальность, от внимания чистых теоретиков и историков фонологии;
-
4) разбросанность имеющихся в его работах положений, которые не составляют единой и цельной системы мыслей55;
-
5) тенденция к теоретическому изоляционизму самого автора (отчасти под влиянием марризма).
К этому списку возможных факторов можно добавить еще один немаловажный момент, тесно связанный с «Основами фонологии». Их автор в некотором смысле невольно виноват. Общеизвестно, что этот капитальный труд завершил подготовительный период десятилетних разысканий Н. С. Трубецкого, доведя до окончательной трактовки принципы и цели нового лингвистического направления на основе обширного документального материала [43: XI]. Как отмечал французский лингвист Андре Мартине (1908– 1999), стечение таких трагических обстоятельств, как кончина автора, включение Чехословакии в состав Третьего рейха, расовые и политические преследования и войны, сделали «Основы фонологии» вершиной решающего периода в истории языкознания, придавая ему непреходящую ценность [42: IX]. И в редакторском предисловии к русскому переводу «Основ фонологии»
указывается на то, что фундаментальный труд Н. С. Трубецкого
«завершил длительный этап теоретической подготовки фонологии. Это – первое развернутое и систематическое изложение новой лингвистической дисциплины, сыгравшее исключительную роль в оформлении и закреплении ее в науке» [19: 5].
«Основы фонологии» представляют собой своего рода summa phonologiae à la Trubetzkoy, итог его десятилетних разысканий в этой области – “the last statement of his theoretical work” [30: 345], куда вошли мысли и идеи целого поколения русских и зарубежных лингвистов; в них Н. С. Трубецкой выступает в качестве фонологического Баха. В истории музыки немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) по праву считается вершиной развития музыкального искусства эпохи барокко. Как известно, он переписывал для себя произведения многих французских и итальянских композиторов, чтобы лучше и глубже освоить их музыкальный стиль и обучиться ему; позже он даже переложил несколько скрипичных концертов Антонио Вивальди для органа. Н. С. Трубецкой тоже продолжал линию фонологических интуиций Бодуэновской школы, как писал сам в ответ на полученную критику (черновик от 27 октября 1931 года):
«Ich entferne mich mehr und mehr von dem System Bau-douins. Das ist selbstverständlich unvermeidlich. Es scheint mir jedoch, wenn man die späten von Baudouin und Ščerba vorgebrachten Definitionen, die nach meiner Meinung oft ungenügend und ungenau sind, beiseite ließe, und wenn man nur das Wesentliche ihrer Systeme nähme, d. h. wie sie diese Systeme in die Praxis umgesetzt haben, so sähe man, daß unsere heutigen Auffassungen (die von Jakobson und mir) die betreffenden Systeme eher weiter entwickeln als sie widerlegen» [36: 286]; см. также [39: 268, прим. 120]56 – «Я все более удаляюсь от системы Бодуэна. [Это конечно неизбежно]. Мне кажется все-таки, что если обойти определения, предложенные Бодуэном и Щербой, [которые, на мой взгляд, часто недостаточны и неточны,] и если брать только «существенное» из их систем [, т. е. как они применяли эти системы на практике,] будет видно, что наша сегодняшняя точка зрения (Якобсона и моя) продолжает развивать эти системы, не отменяя их» (цит. по [16: 330] с восполнениями).
Следует учесть то неизбежное обстоятельство, что в науке, как и в искусстве, заслуга предшественников очень часто оценивается исходя из собственной точки зрения, субъективно воспринимающей, интерпретирующей и нередко искажающей исконное положение дел. Глядя с вершины Пражской фонологической теории, нельзя не испытывать ощущение, что видные ученые, как, например, Н. Ф. Яковлев и его современники, занимают лишь предварительное (подготовительное) положение; в данной перспективе их значение существенно и незаслуженно снижается. Следовательно, в глазах западной лингвистики эти личности превращаются, в лучшем случае, во второстепенные фигуры на шахматной доске научных открытий, тогда как в российской традиции они по праву считаются героями отечественной лингвистики57. Главная задача историков языкознания и заключается как раз в том, чтобы вернуть их на подобающее им место, вознеся их важные исследования и открытия на высокий пьедестал мировой науки.
-
6 Эта теневая сторона в жизни и деятельности Н. Ф. Яковлева подробно описана в статье [1: 147–154].
-
7 Положительно оценивается «системный подход» автора при осмыслении соотношения между языковыми фактами в работе [9: 363].
-
8 Так высказывался голландский лингвист Аерт Х. Койперс (1919–2012) по поводу его грамматик адыгейского [26] и кабардино-черкесского языков [22]: «These books contain interesting ideas besides many Marrist aberrations, but they are not on a level with Jakovlev’s brilliant work of the twenties» [41: 320].
-
9 Выборочную библиографию, состоящую из 23 позиций, составил Патрик Серио и выложил на странице Научно-исследовательского центра по истории и сравнительной эпистемологии языкознания Центральной и Восточной Европы (Centre de recherches en histoire et épistémologie comparée de la linguistique d’Europe centrale et orientale (CRECLECO), http://crecleco.seriot.ch/recherche/ENCYCL%20LING%20RU/JAKOVLEV/Jakovlev . html, 26.10.2022). Более полный список трудов Н. Ф. Яковлева готовится теперь Алексеем Викторовичем Андроновым, Вячеславом Андреевичем Чирикбой и Витторио Спрингфилдом Томеллери (предварительную версию см.: http://genling.spbu.ru/llf/persons/Jakovlev_bibl.doc , 26.10.2022).
-
10 Если отождествлять фонологию с Пражским лингвистическим кружком, то условным годом ее рождения можно считать, вслед за мнением голландского лингвиста Николаса ван Вейка (1880–1941), 1928, когда на 1-м Международном конгрессе лингвистов были представлены ее принципы в пяти тезисах [7: 17].
-
11 Это же мнение повторяла в своей монографии по истории фонологических теорий Эли Фишер-Йерген-сен, которая таким образом, в отличие от многих своих западных коллег, упоминала Н. Ф. Яковлева, хотя лишь мимоходом и в связи с Московской фонологической школой: «In the start the Moscow group was strongly influenced by the works of N. F. JAKOVLEV (born 1892) who had developed a purely functional phoneme concept for the purpose of transcribing Caucasian dialects, and described this concept in articles published in 1923 and 1928. Jakovlev was influenced by Baudouin de Courtenay, but rejected the psychological approach» [29: 331].
-
12 О Н. Ф. Яковлеве подробнее говорится в статье [35], ставшей мне доступной лишь во время корректуры.
-
13 Яковлев Н. Ф. Ингуши. Популярный очерк. М.; Л., 1925.
-
14 Яковлев Н. Ф. ГIалгIай: популаьрни очерк. Владикавказ, 1930. Приношу искреннюю благодарность А. В. Андронову, указавшему мне на наличие этой публикации.
-
15 Яковлев Н. Ф. Таблицы фонетики кабардинского языка. М., 1923.
-
16 Яковлев Н. Ф. Математическая формула построения алфавита (Опыт практического приложения лингвистической теории) // Культура и письменность Востока: Сборник Всесоюзного Центрального Комитета Нового Тюркского Алфавита. Книга 1. М., 1928. С. 41–64.
-
17 Эта работа подвергается подробнейшему анализу в статье [33].
-
18 «Sehr gründliche Arbeit über die Phonetik des Hauptdialektes des Tscherkessischen» (Dirr A. Bücherbesprechungen // Caucasica. 1930. T. 6, № 1. P. 71) – «Очень тщательная работа над фонетикой основного диалекта черкесского языка».
-
19 Лингвист, кавказовед и советский деятель, Л. И. Жирков в 1924 году стал сотрудником Н. Ф. Яковлева, возглавившего созданный в том же году Комитет по изучению языков и этнических культур Северного Кавказа [1: 141].
-
20 Жирков Л. И. Труды подразряда исследования северокавказских языков при Институте Востоковедения в Москве. Вып. 1. Н. Яковлев. – Таблицы фонетики кабардинского языка. Москва. 1923, Стр. IV–112–5 табл. Вып. 2. Он же. – Словарь примеров к таблицам фонетики кабардинского языка. Москва. 1924. Стр. 104 // Новый Восток. Журнал Научной Ассоциации Востоковедения СССР. 1924. №. 5. С. 441–442.
-
21 Trubetzkoy N. Trudy Podrazrjada issledovanija severno-kavkazskich jazykov pri Institute Vostokovedenija v Moskve. – (Travaux de la Section des langues du Caucase septentrional de l’Institut Oriental à Moscou). – № 1: N. Jakovlev, Tablicy fonetiki kabardinskogo jazyka (Tables phonétiques de la langue cabarde), Moscou, 1923. № 2: M. [sic!] Jakovlev, Slovarj primerov k tablicam fonetiki kabardinskogo jazyka (Glossaire des exemples aux tables phonétiques de la langue cabarde), Moscou, 1923. – № 3: L. Žirkov, Grammatika avarskogo jazyka (Grammaire de la langue awar), Moscou, 1924 // Bulletin de la Société de linguistique de Paris. 1925. T. 26, № 1–2. P. 277–286, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k32167m/f455.item.r=trubetzkoy (03.10.2022).
-
22 Trubetzkoy N. Trudy Podrazrjada issledovanija severno-kavkazskich jazykov pri Institute Vostokovedenija v Moskve. – (Travaux de la Section des langues du Caucase septentrional de l’Institut Oriental à Moscou). – № 1: N. Jakovlev, Tablicy fonetiki kabardinskogo jazyka (Tables phonétiques de la langue cabarde), Moscou, 1923. № 2: M. [sic!] Jakovlev, Slovarj primerov k tablicam fonetiki kabardinskogo jazyka (Glossaire des exemples aux tables phonétiques de la langue cabarde), Moscou, 1923. – № 3: L. Žirkov, Grammatika avarskogo jazyka (Grammaire de la langue awar), Moscou, 1924 // Bulletin de la Société de linguistique de Paris. 1925. T. 26, № 1–2. P. 278.
-
23 Жирков Л. И. Труды подразряда исследования северокавказских языков при Институте Востоковедения в Москве. Вып. 1. Н. Яковлев. – Таблицы фонетики кабардинского языка. Москва. 1923, Стр. IV–112–5 табл. Вып.
-
2 . Он же. – Словарь примеров к таблицам фонетики кабардинского языка. Москва. 1924. Стр. 104 // Новый Восток. Журнал Научной Ассоциации Востоковедения Союза ССР. 1924. №. 5. С. 442.
-
24 Н. Ф. Яковлев пользовался созданным им самим термином «фонемология». Именно как «Принципы фоне-мологии» и была переиздана теоретическая часть «Таблиц» в журнале «Вопросы языкознания» [25].
-
25 Trubetzkoy N. Trudy Podrazrjada issledovanija severno-kavkazskich jazykov pri Institute Vostokovedenija v Moskve. – (Travaux de la Section des langues du Caucase septentrional de l’Institut Oriental à Moscou). – № 1: N. Jakovlev, Tablicy fonetiki kabardinskogo jazyka (Tables phonétiques de la langue cabarde), Moscou, 1923. № 2: M. [sic!] Jakovlev, Slovarj primerov k tablicam fonetiki kabardinskogo jazyka (Glossaire des exemples aux tables phonétiques de la langue cabarde), Moscou, 1923. – № 3: L. Žirkov, Grammatika avarskogo jazyka (Grammaire de la langue awar), Moscou, 1924 // Bulletin de la Société de linguistique de Paris. 1925. T. 26, № 1–2. P. 278.
-
26 Следует отметить, что спустя несколько лет Н. Ф. Яковлев, при защите нового алфавита, положенного в основу письменностей восточных народов СССР, выступил с ответом на заметку С. А. Врубеля (Врубель С. А. Унификация и латинизация // Культура и письменность Востока. Книга VII–VIII. М., 1931. С. 125–130), ясно выражая свои возражения против аналитического алфавита (Яковлев Н. Ф. «Аналитический» или «новый» алфавит? // Культура и письменность Востока. Кн. Х. M., 1931. С. 43–60); см. об этом [14: 219–220], [7: 19] и, особенно, [49]. Практическую непригодность марровской транскрипции, неудобной уже для лингвистов, отмечал также А. Мейе в своей рецензии на «Материалы для кабардинского словаря» (1927): «Celle qu’emploie M. Marr n’est déjà pas commode pour les linguistes; pour la pratique, elle est en tout cas inutilisable» (Bulletin de la Société linguistique de Paris. 1929. T. 29. P. 239–241. С. 240). Об истории этой графической системы, которая впоследствии стала «абхазским аналитическим алфавитом», см. [18]; разгромная критика яфетидологиче-ской транскрипции Н. Я. Марра со стороны Евгения Дмитриевича Поливанова (1891–1938) была недавно издана по архивным материалам [3].
-
27 Trubetzkoy N. Trudy Podrazrjada issledovanija severno-kavkazskich jazykov pri Institute Vostokovedenija v Moskve. – (Travaux de la Section des langues du Caucase septentrional de l’Institut Oriental à Moscou). – № 1: N. Jakovlev, Tablicy fonetiki kabardinskogo jazyka (Tables phonétiques de la langue cabarde), Moscou, 1923. № 2: M. [sic!] Jakovlev, Slovarj primerov k tablicam fonetiki kabardinskogo jazyka (Glossaire des exemples aux tables phonétiques de la langue cabarde), Moscou, 1923. – № 3: L. Žirkov, Grammatika avarskogo jazyka (Grammaire de la langue awar), Moscou, 1924 // Bulletin de la Société de linguistique de Paris. 1925. T. 26, № 1–2. P. 280–281.
-
28 Dirr A. Bücherbesprechungen // Caucasica. 1930. T. 6, № 1. P. 72.
-
29 Jakovlev N. Kurze Übersicht über die tscherkessischen (adygeischen) Dialekte und Sprachen // Caucasica. 1930. T. 6, № 1. P. 1–19 (перевод Адольфа Дирра).
-
30 Немецкоязычный оригинал: «Phonologische Einheiten, die sich vom Standpunkt der betreffenden Sprache nicht in noch kürzere aufeinanderfolgende phonologische Einheiten zerlegen lassen, nennen wir Phoneme» (Trubetzkoy N. Grundzüge der Phonologie. Prague, 1939. С. 34). Важность понятия оппозиции при определении фонемы отмечалась им и раньше: «Le phonème est le terme d’une oppo||sition phonologique non susceptible d’être dissociée en unités phonologiques plus petites et plus simples» (Trubetzkoy N. Essai d’une théorie des oppositions phonologiques // Journal de psychologie normale et pathologique. 1936. T. 33. P. 5–18, https://gallica.bnf.fr/ ark:/12148/bpt6k9657226r.texteImage (05.10.2022). С. 6–7) – «фонема – это член фонологической оппозиции, неспособный быть разложенным на более простые фонологические единицы» (русский перевод по: [16: 336]).
-
31 Trubetzkoy N. Grundzüge der Phonologie. Prague, 1939. С. 37 = [19: 47]. Отделяя фонетику от фонологии, Н. С. Трубецкой установил предмет последней в терминах ассоциативной психологии: «Im Gegensatz zur Phonetik, die eine Naturwissenschaft ist und sich mit den Lauten der menschlichen Rede befaßt, hat die Phonologie die Phoneme oder Lautvorstellungen der menschlichen Sprache zum Gegenstand und ist demnach ein Teil der Sprachwissenschaft. Phonologie gehört zur Grammatik ebenso wie Morphologie und Syntax» (Trubetzkoy N. Zur allgemeinen Theorie der phonologischen Vokalsysteme // Mélanges linguistiques dédiées au Premier congrès des philologues slaves. Prague, 1929. P. 39, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k92445c.image (05.10.2022)) – «В отличие от фонетики, которая является естественной наукой и занимается звуками человеческой речи, фонология изучает фонемы или звукопредставления человеческой речи и, следовательно, является частью лингвистики. Фонология принадлежит к грамматике, как и морфология и синтаксис».
-
32 Следует здесь обратить внимание на досадную ошибку в переиздании 1983 года, где вместо теоретически и терминологически центрального имени прилагательного «фонемологических» напечатано «фонетических» [25: 128].
-
33 Яковлев Н. Ф. Таблицы фонетики кабардинского языка. М., 1923. С. 66. См. также [14: 212]; в данном пассаже намечается «системно-функциональный подход к явлениям языка» [7: 22].
-
34 Яковлев Н. Ф. Математическая формула построения алфавита (Опыт практического приложения лингвистической теории) // Культура и письменность Востока. Сборник Всесоюзного Центрального Комитета Нового Тюркского Алфавита, книга 1. М., 1928. С. 41–64. Эта работа стала классикой отечественной фонологии, войдя в хрестоматию, подготовленную А. А. Реформатским, которая ею и открывается [17: 123–148].
-
35 Trubetzkoy N. Grundzüge der Phonologie. Prague, 1939. С. 34, прим. 2 = [19: 43, прим. 1].
-
36 Яковлев Н. Ф. Математическая формула построения алфавита (Опыт практического приложения лингвистической теории) // Культура и письменность Востока: Сборник Всесоюзного Центрального Комитета Нового Тюркского Алфавита. Книга 1. М., 1928. С. 46.
-
37 Яковлев Н. Ф. Материалы для кабардинского словаря, выпуск I: Словарь односложных коренных слов и корней типа открытого слога. М., 1927. С. XXXIX.
-
38 Яковлев Н. Ф. Материалы для кабардинского словаря, выпуск I: Словарь односложных коренных слов и корней типа открытого слога. М., 1927. С. XLII.
-
39 Яковлев Н. Ф. Математическая формула построения алфавита (Опыт практического приложения лингвистической теории) // Культура и письменность Востока. Сборник Всесоюзного Центрального Комитета Нового Тюркского Алфавита, книга 1. М., 1928. С. 44; см. также [14: 217].
-
40 Яковлев Н. Ф. Математическая формула построения алфавита (Опыт практического приложения лингвистической теории) // Культура и письменность Востока. Сборник Всесоюзного Центрального Комитета Нового Тюркского Алфавита, книга 1. М., 1928. С. 44. Как отмечалось в научной литературе, «концентрация внимания на той стороне теории фонем, которая необходима для создания письма, – характерная черта его фонологической концепции» [9: 366].
-
41 Хаджиев А. Об унификации горских алфавитов // Революция и горец. 1930. Т. 4 (18). С. 49.
-
42 Немецкоязычный оригинал: «…kommt überhaupt gar keine Funktion zu; sie ersetzen einander ganz willkürlich, ohne daß dabei die Kundgabenfunktion oder die Auslösefunktion der Rede irgendwie geändert würde» (Trubeckoj N. Grundzüge der Phonologie. Prague, 1939. С. 43).
-
43 Подобные недочеты «Основ» объясняются тем, что из-за преждевременной смерти автора текст не был окончательно отредактирован. Посмертное издание текста на немецком языке осуществилось спустя один год после кончины автора (1939).
-
44 Яковлев Н. Ф. Таблицы фонетики кабардинского языка. М., 1923. С. 82, прим. 1.
-
45 Яковлев Н. Ф. Таблицы фонетики кабардинского языка. М., 1923. С. 83; см. также [14: 213].
-
46 Яковлев Н. Ф. Таблицы фонетики кабардинского языка. М., 1923. С. 21; Trubetzkoy N. Grundzüge der Phonologie. Prague, 1939. С. 121 = [19: 150].
-
47 «Надгортанная экспирация имеет своим источником запас воздуха в полостях рта, зева и верхней части гортани (от голосовой щели до верхнего выходного отверстия), а роль органа, производящего выдыхание, играет сомкнутая наглухо и в междухрящевой, и в междусвязочной своей части гортанная щель (“glottis” Sievers’а) более или менее энергичным подъeмом кверху, как поршнем, компрессирующая воздух в выше лежащих полостях и дающая, таким образом, возможность акустически использовать созданную компрессию (эта экспираторная работа гортани правильно описана на основании фактов грузинской и армянской фонетики Sievers’ом, см. § 365)» (Яковлев Н. Ф. Таблицы фонетики кабардинского языка. М., 1923: 23–24, со ссылкой на пятое издание работы Sievers E. Grundzüge der Phonetik zur Einführung in das Studium der Lautlehre der indogermanischen Sprachen, fünfte verbesserte Auflage (Bibliothek indogermanischer Grammatiken 1). Leipzig, 1901. С. 141).
-
48 Trubetzkoy N. Grundzüge der Phonologie. Prague, 1939. С. 140 = [19: 174].
-
49 Trubetzkoy N. Grundzüge der Phonologie. Prague, 1939. С. 146 = [19: 182]; Яковлев Н. Ф. Таблицы фонетики кабардинского языка. М., 1923. С. 89.
-
50 Trubetzkoy N. Grundzüge der Phonologie. Prague, 1939. С. 217.
-
51 Яковлев Н. Ф. Таблицы фонетики кабардинского языка. М., 1923. С. 80.
-
52 Яковлев Н. Ф. Таблицы фонетики кабардинского языка. М., 1923. С. 70.
-
53 Trubetzkoy N. Grundzüge der Phonologie. Prague, 1939. С. 250 = [19: 311].
-
54 Якобсон Р. О. О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с русским (Сборники по теории поэтического языка 5, 1). Берлин, 1923. С. 29.
-
55 Единственным обобщающим изложением являлась, по всей видимости, его работа «Теория фонем», принятая к изданию в 1928–1929 годах, но по каким-то причинам не увидевшая света [1: 143]. Трудно, однако, согласиться с тем, что, «…если бы она была своевременно издана, она могла бы иметь для науки не меньшее значение, чем всемирно известные “Основы фонологии” Трубецкого, появившиеся позже» [1: 143]; см. также в таком же духе [7: 30].
-
56 Ошибки И. А. Бодуэна и его школы Н. С. Трубецкой возводил к чрезмерному влиянию историзма и фонетическому восприятию фонемы [36: 286].
-
57 «Николай Феофанович Яковлев вошел в историю отечественной науки и культуры не только как кавказовед, но и как специалист по теоретической и прикладной лингвистике» [4: 179].
Список литературы Фонологическая теория Н. Ф. Яковлева и ее восприятие в западной лингвистике
- Алпатов В. М. Дважды умерший // Алпатов В. М. Языковеды, востоковеды, историки. М., 2012. С. 137-157.
- Алпатов В. М. Николай Феофанович Яковлев // Отечественные лингвисты ХХ века / Отв. ред. В. В. Потапов. М., 2016. С. 773-779.
- Андронов А. В., Симонато Е. И., Томеллери В. С. Евгений Дмитриевич Поливанов, Абхазский аналитический алфавит. Издание текста с переводом на английский язык // Studi Slavistici. 2017. Т. 14. С. 191-252 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://oaj.fupress.net/index.php/ss/article/view/2405 (дата обращения 03.10.2022).
- Габуниа З. М. Очерки по истории кавказского языкознания. Книга вторая. Нальчик, 2020. 592 с.
- Дешериев Ю. Д. Н. Ф. Яковлев и развитие советского языкознания в 20-40-х годах ХХ в. // Н. Ф. Яковлев и советское языкознание: Сборник научных трудов / Отв. ред. Ю. Д. Дешериев. М., 1988. С. 7-16.
- Дешериев Ю. Д., Климов Г. А. Предисловие // Н. Ф. Яковлев и советское языкознание: Сборник научных трудов / Отв. ред. Ю. Д. Дешериев. М., 1988. С. 3-6.
- Журавлев В. К. Н. Ф. Яковлев и фонология // Н. Ф. Яковлев и советское языкознание: Сборник научных трудов / Отв. ред. Ю. Д. Дешериев. М., 1988. С. 16-31.
- Калимова Г. А. Библиография работ Н. Ф. Яковлева // Н. Ф. Яковлев и советское языкознание: Сборник научных трудов / Отв. ред. Ю. Д. Дешериев. М., 1988. С. 48-52.
- Климов Г. А., Панов М. В., Реформатский А. А. Из истории отечественного языкознания 20-40-х годов. Н. Ф. Яковлев (1892-1974) // Известия Академии Наук СССР. Серия литературы и языка. 1975. Т. 34, № 4. С. 362-367 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://feb-web.ru/feb/ izvest/1975/04/754-362.htm (дата обращения 03.11.2022). (Перепечатано в кн. [15: 707-714]).
- Концевич Л. Р. Николай Феофанович Яковлев (К 75-летию со дня рождения) // Известия Академии Наук СССР. Серия литературы и языка. 1967. Т. 26, № 6. С. 557-560 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://feb-web.ru/feb/izvest/1967/06/676-557.htm (дата обращения 04.11.2022).
- Никольский В. К., Яковлев Н. Ф. Как люди научились говорить. М., 1945. 39 с.
- Никольский В. К., Яковлев Н. Ф. Основные положения материалистического учения Н. Я. Марра о языке // Вопросы философии. 1949. Т. 1 (6). С. 265-285.
- Никольский В. К., Яковлев Н. Ф. Как возникла человеческая речь. М., 1949. 62 с.
- Панов М. В. Теория фонем Н. Ф. Яковлева и создание новых письменностей в СССР // Народы Азии и Африки. 1974. № 4. С. 210-223.
- Панов М. В. Труды по общему языкознанию и русскому языку. Т. 2. М., 2007. 842 с.
- Реформатский А. А. Н. С. Трубецкой и его «Основы фонологии» // Трубецкой Н. С. Основы фонологии / Пер. с нем. А. А. Холодовича, ред. С. Д. Кацнельсона, послесл. А. А. Реформатского. М., 1960. С. 326-361.
- Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии. Очерк: Хрестоматия. М., 1970. 527 с.
- Томеллери В. С. Абхазский аналитический алфавит академика Н. Я. Марра. Эволюция, революция и языковое строительство // Revue des Etudes Slaves. 2017. Т. 88, № 1-2. С. 69-95 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://journals.openedition.org/res/940 (дата обращения 03.10.2022).
- Трубецкой Н. С. Основы фонологии / Пер. с нем. А. А. Холодовича, ред. С. Д. Кацнельсона, послесл. А. А. Реформатского. М., 1960. 371 с.
- Чикобава А. С. О некоторых вопросах советского языкознания // Правда. 1950. № 129 (11601). 9 мая. С. 3-5.
- Яковлев Н. Ф. Древние языковые связи Европы, Азии и Америки // Известия Академии Наук СССР. Серия литературы и языка. 1946. Т. 5, № 2. С. 141-148 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://feb-web. ru/feb/izvest/1946/02/462-141.htm (дата обращения 02.11.2022).
- Яковлев Н. Ф. Грамматика литературного кабардино-черкесского языка. М.; Л., 1948. 371 с.
- Яковлев Н. Ф. Академик Н. Я. Марр как гражданин и ученый (К 15-летию со дня смерти акад. Н. Я. Марра) // Ученые записки Кабардинского научно-исследовательского института. 1949. Т. 5. С. 17-50.
- Яковлев Н. Ф. Преодолеем ошибки в своей работе // Правда. 1950. № 185 (11657). 4 июля. С. 4.
- Яковлев Н. Ф. [Принципы фонемологии] // Вопросы языкознания. 1983. № 6. С. 128-134 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vja.ruslang.ru/archive/1983-6.pdf (дата обращения 03.10.2022).
- Яковлев Н. Ф., Ашхамаф Д. А. Грамматика адыгейского литературного языка. М.; Л., 1941. 464 с.
- Albano Leoni F. Dei suoni e dei sensi. Il volto fonico delle parole. Bologna, 2009. 242 p.
- Asnin F. D., Alpatov V. M. Nikolaj Feofanovic Jakovlev (1892-1974) // Histoire Epistemologie Langage. 1995. T. 17, № 2. P. 147-161 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.persee.fr/doc/hel_0750-8069_1995_num_17_2_2416 (дата обращения 26.10.2022).
- Fischer-Jorgensen E. Trends in phonological theory. A historical introduction. Copenhagen, 1975. XXIII, 474 p.
- Harris Z. Review of Trubetzkoy 1939 // Language. 1941. Vol. 17, № 4. P. 345-349 (перепечатано в [31: 706-711]).
- Harris Z. Papers in structural and transformational linguistics. Dordrecht, 1970. X, 850 p.
- Häusler F. Das Problem Phonetik und Phonologie bei Baudouin de Courtenay und in seiner Nachfolge. Halle, 1968. 161 p.
- van Helden W. A. Jakovlev's magic formula and the linotype // Dutch contributions to the Fifteenth International Congress of Slavists (Minsk, August 20-27, 2013). Linguistics / E. Fortuin et al. (Eds.) (Studies in Slavic and General Linguistics 40). Amsterdam; New York, 2013. P. 59-107.
- van der Hulst H. Discoverers of the phoneme // The Oxford handbook of the history of linguistics / K. Allan (Ed.). Oxford, 2013. P. 167-190.
- Ioasad P. Phonology in the Soviet Union // The Oxford history of phonology / B. E. Dresher and H. van der Hulst (Eds.). Oxford, 2022. P. 309-330.
- Jakobson R. Autobiographische Notizen von N. S. Trubetzkoy // Trubetzkoy N. S. Grundzüge der Phonologie. Göttingen, 19715 (19581). P. 273-288.
- Jakobson R. N. S. Trubetzkoy's letters and notes / Prepared for publication by Roman Jakobson with the assistance of H. Baran, O. Ronen, and M. Taylor (Janua Linguarum, Series Maior, 47). The Hague-Paris, 1975. XXIII, 506 p.
- Koerner E. F. K. Zu Ursprung und Entwicklung des Phonembegriffs. Eine historische Notiz // Sprache in Gegenwart und Geschichte. Festschrift für Heinrich Matthias Heinrichs zum 65. Geburtstag / D. Hartmann, H. Linke & O. Ludwig (Hrsgg.). Köln; Wien, 1978. P. 82-93.
- Kohrt M. Problemgeschichte des Graphembegriffs und des frühen Phonembegriffs (Germanistische Linguistik 61). Tübingen, 1985. X, 518 p.
- Kuipers A. H. Phoneme and morpheme in Kabardian (Eastern Adyghe) (Janua linguarum 8). The Hague, 1960. 124 p.
- Kuipers A. H. Caucasian // Current trends in linguistics. Volume 1: Soviet and East European linguistics / Edited by Th. A. Sebeok. The Hague; Paris; New York, 1963. P. 315-344.
- Martinet A. Préface // Trubetzkoy N. Principes de phonologie / Traduits par J. Cantineau. Paris, 1949. P. IX-XI.
- Mazzuoli Porru G. Presentazione // Trubeckoj N. S. Fondamenti di fonologia / Edizione italiana a cura di G. Mazzuoli Porru. Torino, 1971. P. XI-XVI.
- Mc Carthy J. J. Phonology // International encyclopedia of linguistics, second edition / W. Frawley (Ed.). Oxford, 2003. P. 327-330 [Электронный ресурс]. Режим доступа https://works.bepress.com/john_j_mccarthy/81/ (дата обращения 24.11.2022).
- Molchanova O. T. Jakovlev, Nikolaj Feofanovic (1892-1974) // Encyclopedia of language & linguistics, second edition. Vol. 6 / K. Brown (Ed.). Amsterdam et al., 2006. P. 88.
- Mu n o t Ph. Note au sujet des précurseurs de la phonologie // Word. 1967. T. 23, № 1-3. P. 414-421.
- Nikol'skij W. K., Jakowlew N. F. Wie die Menschen sprechen lernten. Wien, 1950. 54 p.
- Simonato E. 'Social phonology' in the USSR in the 1920s // Studies in East European Thought. 2008. Vol. 60, № 4. P. 339-347.
- Simonato-Kokochkina E. Alphabet «chauvin» ou alphabet «nationaliste»? // Le discours sur la langue sous les régimes autoritaires / numéro édité par P. Sériot et A. Tabouret-Keller (Cahiers de l'Institue de linguistique et des sciences du langage 17). Lausanne, 2004. P. 261-275 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www. unil.ch/files/live/sites/clsl/files/shared/CILSL17.pdf (дата обращения 26.10.2022).
- Tomelleri V. S. Nikolaj Feofanovic Jakovlev e la "nascita" della fonologia: fra linguistica applicata e caucasologia // Ubi homo, ibi lingua. Studi in onore di Maria Patrizia Bologna, a cura di Laura Biondi, Francesco Dedè, Andrea Scala (con la collaborazione di Chiara Meluzzi e Massimo Vai). Alessandria: Edizioni Dell'Orso, 2022. P. 1359-1371.