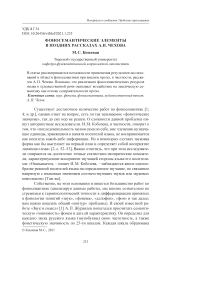Фоносемантические элементы в поздних рассказах А.П. Чехова
Автор: Кошевая Мария Станиславовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 1, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются возможности применения результатов исследований в области фоносемантики при анализе прозы, в частности, рассказов А.П. Чехова. Показано, что реализация фоносемантических ресурсов языка в художественной речи оказывает воздействие на лексическую семантику как основу содержательности прозы.
Звук, фонема, фоносемантика, художественный текст, а.п. чехов
Короткий адрес: https://sciup.org/146282246
IDR: 146282246 | УДК: 81’34 | DOI: 10.26456/vtfilol/2021.1.233
Текст научной статьи Фоносемантические элементы в поздних рассказах А.П. Чехова
Существует достаточное количество работ по фоносемантике [1; 4; и др.], однако ответ на вопрос, есть ли так называемое «фонетическое значение», так до сих пор не решен. О сложности данной проблемы пишут авторитетные исследователи. И. М. Кобозева, в частности, говорит о том, что «последовательность звуков сама по себе, вне членения на значащие единицы, хранящиеся в памяти носителей языка, не воспринимается как носитель какой-либо информации. Но в некоторых случаях звуковая форма как бы выступает на первый план и определяет собой восприятие значения слова» [2, с. 52–53]. Важно отметить, что при этом исследователи опираются на достаточно точные статистико-эмпирические показатели, характеризующие восприятие звучащей стороны языка его носителями: «Оказывается, – пишет И. М. Кобозева, – наблюдается явное единообразие реакций носителей языка на определенное звучание, не связанное напрямую с языковым значением соответствующих звуков или звуковых комплексов» [Там же].
Собственно, на этом основании и пишется большинство работ по фоносемантике (анализируя данные работы, мы вполне сознательно не стремимся к терминологической точности в дифференциации принятых в фонологии понятий «звук», «фонема», «аллофон», «фон» и так далее; нам важно показать общий «контур» проблемы). В своей известной работе «Звук и смысл» [1] А. П. Журавлев попытался просчитать семантическую «значимость» фонем и дать ей характеристику. Он определил для каждого звука русского языка (звукобуквы) свою частотность, а также фонетическую значимость по 25-ти шкалам. Каждая шкала образована
парой двух антонимичных прилагательных, определяющих степень проявления признака (хороший-плохой, большой-маленький, красивый-от-талкивающий и т. п.). И каждая звукобуква русского языка по каждой шкале в результате многочисленных экспериментов получила свой балл от 1 до 5. Так, звук [а] по шкале «хороший-плохой» получил 1,5 балла, что означает – данный звук большинством носителей русского языка осознается как «очень хороший», в то время как звук [ш] по той же шкале получил 4,0 балла, что ближе к «очень плохому». Баллы от 2,5 до 3,5 Журавлев определил как «никакие», то есть звуки, имеющие по той или иной шкале от 2,5 до 3,5 баллов, не имеют ярко выраженного того или иного признака при их восприятии большинством носителей русского языка. Звуки, получившие баллы от 1 до 2,5 и от 3,5 до 5, соответствующие тому или иному признаку, оказываются в зоне значимых отклонений, то есть тот или иной признак оказывается семантически значим при восприятии данного звука.
Разумеется, пользоваться фоносемантической таблицей Журавлева при анализе текстов можно с определенной долей осторожности, так же как и разработками проекта «ВААЛ», создатели которого во многом опирались на исследования Журавлева в области фоносемантики. Не представляется возможным анализировать каждое слово исследуемого текста с точки зрения фоносемантики на предмет выявления «скрытых смыслов», и это едва ли будет целесообразно. Тем не менее звуки речи способны оказывать на воспринимающее сознание определенное впечатление, работать на эмоциональное восприятие текста. И поэтому там, где звуки (фоника) влияют на восприятие и понимание текста и даже становятся вспомогательным средством экспликации ключевой идеи произведения, – там возможно применение разработок в области фоносемантики.
Ю. М. Лотман отмечал, что «повторяемость фонем в стихах подчиняется несколько иным законам, чем в нехудожественной речи. Если рассматривать обычное речевое употребление как неупорядоченное <…> то поэтический язык предстанет как упорядоченный особым образом, в том числе и на уровне фонем» [3, с. 453]. Обычное речевое употребление – это языковая норма. «Норма проникает на уровень подсознания, которое содержит хорошо автоматизированные и потому переставшие осознаваться навыки… Вследствие этого норма, как правило, обладает нулевой семи-отичностью: она хорошо известна» [5, с. 9]. По мнению Ю. М. Лотмана, наиболее очевидный способ определения значимости фонем в поэзии – это «подбор слов таким образом, чтобы определенные фонемы встречались чаще или реже, чем в той языковой норме, которую трудно сформулировать, но которая дана каждому владеющему данным языком интуитивно. Эта норма реализуется особым образом – незаметностью» [3, с. 453].
Эта незаметность есть соответствие норме частотности звуков в языке. Норму частотности звуков А. П. Журавлев определил, подсчитав, «сколько раз в среднем на тысячу звукобукв встречается каждая звукобук-ва в обычной разговорной речи» [1, с. 39]. Значительное отклонение от этой нормы, как правило, в сторону большей частотности, является семантически значимым. Но частотность фонем (звукобукв) сверх нормы является очевидным показателем весомости именно в поэзии; считается, что в художественной же прозе этот фактор имеет скорее второстепенное значение. Последнее нам кажется не вполне точным.
Ю. М. Лотман утверждал, что «фонема не просто звук определённой физической природы, а звук, которому в языке искусства приписано определённое структурное значение, звук, осмысленный по многим уровням» [3, с. 457]. Уровни текстовой иерархии в литературно-художественных текстах не существуют автономно друг от друга, но вступают в разного рода семантические отношения: «…иерархия уровней структуры поэтического произведения <…> состоит из единства макро- и микросистем, идущих вверх и вниз от определённого горизонта. В качестве подобного горизонта выступает уровень слова, который составляет семантическую основу всей системы. Вверх от горизонта идут уровни элементов более крупных, чем слово, ниже – элементы, составляющие слова» [Там же, с. 461]. Эти «элементы, составляющие слова» – морфемы и фонемы – и взаимодействуют семантически с уровнем слова. Исходя из данного понимания роли фонем в поэтическом тексте, мы можем утверждать, что и в художественной прозе, поскольку она есть определенным образом с определённой эстетической целью упорядоченный текст (иерархия взаимодействующих уровней), пусть и в менее значительной степени, чем в поэзии, фонемы могут играть весомую роль в формировании совокупной семантики текста.
Рассмотрим данный механизм на примере некоторых рассказов А. П. Чехова.
В рассказе «Случай из практики» звуки ударов по железу являют кульминационный момент в произведении, поскольку знаменуют собой перелом в сознании героя и в повествовании в целом (далее цитаты приводятся по изданию [6] с указанием только номера страницы): Вдруг раздались странные звуки, те самые, которые Королев слышал до ужина. Около одного из корпусов кто-то бил в металлическую доску, бил и тотчас же задерживал звук, так что получались короткие, резкие, нечистые звуки, похожие на «дер... дер... дер...». Затем полминуты тишины, и у другого корпуса раздались звуки, такие же отрывистые и неприятные, уже более низкие, басовые - «дрын... дрын... дрын...». Одиннадцать раз. Очевидно, это сторожа били одиннадцать часов. Послышалось около третьего корпуса: «жак... жак... жак… И похоже было, как будто среди ночной тишины издавало эти звуки само чудовище с багровыми глазами, сам дьявол, который владел тут и хозяевами и рабочими и обманывал и тех и других. (346). Эти «звуки дьявола» переданы у Чехова следующими звуковыми комплексами: «дер-дер», «дрын-дрын», «жак-жак». С точки зрения фоносемантики, данные комплексы (слова) нас будут интересовать, поскольку: а) они относятся к моменту кульминации повествования; б) они десемантизированы; в) они неоднократно появляются на относительно небольшом отрезке текста, то есть можно говорить о высокой частотности данных слов.
Какова возможная семантика звуков, формирующих эти слова? Звук [д], если опираться на таблицу фоносемантических значений А. П. Журавлева, воспринимается большинством носителей русского языка как «грубый, мужественный, активный, холодный, могучий»; звук [р] как «большой, грубый, мужественный, темный, активный, сильный, холодный, тяжелый, страшный, величественный, громкий, храбрый, злой, могучий, подвижный»; звук [ы] как «плохой, большой, грубый, мужественный, темный, пассивный, холодный, отталкивающий, грустный, тусклый, печальный, медлительный»; звук [н] как «большой, грубый, мужественный, медленный, тяжелый, величественный». Сосуществование данных звуков в рамках одной лексемы «уплотняет» их фоносемантику, интенсивность которой возрастает, кроме всего прочего, и за счет, если можно так выразиться, «ретрипликации» (термин, созданный по модели устоявшегося в словообразовании термина «редупликация»).
Таким образом, только на уровне фоники при восприятии слова «дрын» возникает ощущение чего-то могучего и сильного, страшной, тяжелой, величественной силы (следуя логике А. П. Журавлева, здесь также нужно учитывать, что при расчете суммарной фонетической значимости всех звуков слова – «вес» первого звука увеличивается в четыре раза, а ударного – в два). Конечно, семантическую определенность, конкретику данному сочетанию звуков («звуки дьявола») – в полном соответствии с идеями Ю. М. Лотмана, придает контекст, непосредственное текстовое, лексическое окружение. Но и само это окружение обретает более определенное семантику – именно за счет фоносемантических механизмов, реализованных в проанализированном нами звукосочетании, усиливаются, амплифицируются «дьяволические» смыслы рассказа.
Более сложным образом работают данные механизмы в рассказе А. П. Чехова «По делам службы». Данный рассказ с рассказом «Случай из практики» объединяет схожесть композиции, мотив дороги, а также кульминационный момент – перелом в понимании героем окружающей его действительности и своей роли в ней. Этот перелом в обоих рассказах происходит в непривычной герою, чуждой обстановке. И именно этот мо- мент знаменуется появлением необычных звуков. В рассказе «По делам службы» эти звуки связаны с метелью, непогодой. Метель вдруг становится ещё одним героем рассказа, более того – главным героем, как и в случае с дьяволом в рассказе «Случай из практики»:
«– У-у-у-у – пела метель. – У-у-у-у!
– Ба-а-а-тюшки! – провыла баба на чердаке или так только послышалось. – Ба-а-а-тюшки мои-и!
– Ббух! – ударилось что-то снаружи о стену. – Трах!
Следователь прислушался: никакой бабы не было, выл ветер » (385).
В тексте рассказа звуки метели и непогоды появляются несколько раз, и каждый раз вызывают в сознании героя новый виток размышлений и воспоминаний:
«– У-у-у! У-у-у!
– Ббух! Трах! – раздалось опять. – Бух!
И он вдруг вспомнил, как однажды в земской управе, когда он разговаривал с бухгалтером, к конторке подошел какой-то господин с темными глазами, черноволосый, худой, бледный (…)» (386).
Доминирующим звуком в данном микроэпизоде рассказа является звук [у]. Он, если следовать таблице Журавлева, воспринимается как «большой, мужественный, темный, простой, холодный, медленный, грустный, страшный, низменный, тусклый, печальный», и неслучайно этот звук наводит главного героя на тоскливые размышления о скучной жизни в провинции. Но появление других, резких звуков, в сочетании со звуком [у] – ббух , трах – вызывает в памяти героя воспоминания и в итоге приводит к « давней затаенной» мысли, мысли о том, что в этом мире ничто не случайно:
«И несчастный, надорвавшийся, убивший себя «неврастеник», как называл его доктор, и старик мужик, который всю свою жизнь каждый день ходит от человека к человеку, - это случайности, отрывки жизни для того, кто своё существование считает случайным, и это части одного организма, чудесного и разумного для того, кто и свою жизнь считает частью этого общего и понимает это. Так думал Лыжин, и это было его давней затаенной мыслью, и только теперь она развернулась в его сознании широко и ясно» (391).
Причем мысль эта «развернулась широко и ясно» еще и в результате вторжения этого фонетического комплекса – «ббух». В нем, очевидным образом, ключевая фоносемантическая роль отводится фонеме /б/. Звук [б] воспринимается как: «большой, грубый, мужественный, активный, сильный, холодный, быстрый, величественный, яркий, громкий, короткий, храбрый, могучий, подвижный» – как будто удар молотком. И это ощущение подтверждается (вербализуется) далее Чеховым, когда в полудрёме Лыжину вдруг представились Лесницкий и сотский, идущие вместе и поющие:
«– Мы идем, мы идем, мы идем…
Точно кто стучит молотком по вискам» (392)
Последняя фраза перекликается с другой, схожей, и очень известной чеховской фразой про «человека с молоточком» из рассказа «Крыжовник». Только в «Крыжовнике» автор сетует, что нет такого человека с молоточком, который напоминал бы счастливым о существовании несчастных, и что счастье непостоянно, и всё связано и неслучайно, а в рассказе «По делам службы» «функции» человека с молоточком берет на себя метель, и именно резкие звуки, такие как ббух и трах – это и есть тот самый «молоточек», заставляющий главного героя многое переосмыслить.
Таким образом, звуковой комплекс «ббух» являет собой механизм реализации сложной семантики. На «интратекстовом» уровне мы наблюдаем динамизацию семантики «грустный, страшный, низменный, тусклый, печальный» (Журавлев) и, соответственно, ее преодоление за счет комбинирования [у] и [б]. На интертекстуальном уровне происходит конкретизация и вербализация данной семантики («молоточек» в «Крыжовнике»). Таким образом, и здесь, хотя и в более сложном режиме, чем в «Случае из практики», мы видим взаимодействие лексического и фонетического уровней текста, ведущего к их общей «пользе», то есть уплотнению семантики.
А. П. Чехов, особенно в ранних своих рассказах, известен использованием так называемых «говорящих» фамилий: Прорехин, Грязнору-ков, Гнилодушкин, Глоталов, Очумелов, Хрюкин, Жигалов, Червяков, Бризжалов, Грязнов, Пустяков, Ахинеев, Невыразимов, Отлукавин, Кляузов, Тетёхин, Замухришин и т. п. Они «говорящие» именно с лексической точки зрения. В поздних рассказах, которые мы и рассматриваем в данной статье, автор подходит к характеристике персонажей более тонко.
Это связано в том числе и с тем, что драматургия рассказов писателя становится более сложной, неоднозначной. Но в одном Чехов не изменяет себе – он краток. Краткость требует сжатой характеристики персонажей, а в особенности персонажей так называемого «второго плана». И здесь Чехов использует возможности фоносемантики.
Так, в рассказе «Случай из практики» присутствует второстепенный персонаж – гувернантка Христина Дмитриевна, единственная в поместье Ляликовых, которая живет в своё удовольствие. Сочетание фонем /хр’/ является неблагозвучным для русского уха. Звук [х] осознаётся в типологии Журавлева как «плохой, грубый, мужественный, темный, пассивный, медленный, отталкивающий, шероховатый, страшный, низменный, тусклый, угловатый, печальный, тихий, медлительный». Фонема /х/ стоит первой в лексеме-имени, а потому является самой весомой по своей фонетической «значимости».
Более того, звук [х] по таблице частотности звукобукв в речи является одним из самых низкочастотных в русском языке, а потому считается более «информативным», нежели более частотные звуки. Звук [р’] отличается при его восприятии от звука [р] тем, что утрачивает значимость таких характеристик, как: «большой, грубый, мужественный, темный, сильный, тяжелый, страшный, величественный, храбрый, злой, могучий», зато приобретают вес следующие характеристики: «сложный, отталкивающий». В лексеме-имени данного персонажа очевидного преобладание фонемы /и/, которая к тому же является ударной и в имени, и в отчестве.
Звук [и] в сознании большинства носителей русского языка (по Журавлеву) осознается как «хороший, нежный, женственный, светлый, простой, медленный, красивый, гладкий, легкий, безопасный, округлый, радостный, хилый». Но наличие фонемы /и/ дважды в сочетании с фонемой /р’/, наряду с употреблением неблагозвучного сочетания фонем / хр’/ в начале имени, создаёт неприязненное впечатление при восприятии данного имени-отчества персонажа. Оно (имя) появляется в тексте рассказа шесть раз, что довольно-таки частотно для второстепенного персонажа небольшого рассказа, а потому можно с уверенностью утверждать, что автор акцентировал внимание читателя именно на звучании данного имени, что должно было сказать о персонаже больше, чем его портретная характеристика.
Столь же «говорящей» с точки зрения звучания оказывается и фамилия главной героини и её матери в том же рассказе – Ляликовы. Очевидной фонетической значимостью здесь обладает фонема /л’/. Звук [л’] воспринимается как: «хороший, маленький, нежный, женственный, светлый, красивый, гладкий, весёлый, безопасный, округлый, радостный, добрый, хилый». Более того, главную героиню зовут Лиза; таким образом, фонема /л’/, благодаря её очевидной частотности в имени-фамилии героини, влияет на восприятие образа данного персонажа. Становится очевидным контраст имён на уровне фоники: Ли за Ляли кова – Хр и ст ина Дм и тр иевна (в первом имени (имени-фамилии) благозвучие создаётся также за счёт сочетания в слоге согласный+гласный , во втором имени (имени-отчестве) оказывается частотным сочетание в слоге согласный+согласный+гласный , что менее благозвучно для русского языка).
В рассказе «По делам службы» в речи одного из центральных персонажей – сотского Лошадина – появляется эпизодический персонаж, не имеющий в сущности никакой роли в развитии сюжета и реализации общей идеи произведения, но некоторым образом подчёркивающий наивность и простоту самого сотского. Это некий писарь Хрисанф Григо- рьев, который попал под суд за мошенничество, а заодно из-за него под суд попал по своей наивности и сам сотский.
Снова мы здесь сталкиваемся с неблагозвучием в имени из-за начального сочетания фонем /хр’/; и в целом имя-фамилия персонажа звучит неблагозвучно по причине начальных /хр’/-/гр’/, а также финального сочетания фонем в имени - /нф/. Самого же сотского зовут Илья Лошадин, имя которого звучит благозвучно, благодаря наличию той же фонемы /л/ (как в случае с Лизой Ляликовой) и отсутствию сочетаний, в которых соседствуют две согласных фонемы. Любопытно, что сотский Лошадин по имени-фамилии назван в тесте только один раз, в начале текста, далее он фигурирует почти на протяжении всего текста по наименованию своей должности – сотский. Но сам себя он именует (и это подчёркивается Чеховым) – «цоцкай». Это искажение звучания слова, наряду с манерой общения персонажа, его мировоззрением говорит читателю о наивности, простоте, беспомощности и даже некоторой детскости сотского.
Нужно отметить, что неблагозвучное сочетание фонем, указанное выше – /хр’/ – встречается в именах героев Чехова неоднократно, и, как правило, это усиливает отрицательное впечатление от персонажа ( Хр ю-кин – «Хамелеон», Андрей Хр исанфыч – «На святках»). Также можно отметить, что наличие фонемы /л/ (а особенно неоднократное её употребление в лексеме-имени) говорит о наивности, незащищенности, слабости персонажа (Лиза Ляликова «Случай из практики», Илья Лошадин «По делам службы», Лесницкий «По делам службы», Липа «В овраге»). Но это не значит, что подобные сочетания фонем в именах вне художественного текста будут иметь схожие функции. Здесь мы придерживаемся позиции Ю. М. Лотмана о том, что художественный текст, в отличие от обычных речевых употреблений, особым образом упорядочен, в том числе – и на уровне фонем. И роль фонем в структуре художественного текста принципиально иная, нежели роль фонем в структуре языка.
Элементы фоносемантики в рассказах Чехова присутствуют и в речи персонажей. Так, мы уже отметили фонетические особенности речи сотского («По делам службы»), которые заключаются в искажении звучания слов. В рассказе «Архиерей» характер персонажа – отца Сисоя раскрывается благодаря присутствию и многократному повторению в его речи слова «не ндравится» по отношению к разным людям и событиям. То, что он был вечно чем-то недоволен, сказано Чеховым «буквально», то есть, на лексическом уровне, но появление эпентетика, взрывной фонемы /д/ там, где её не должно быть, говорит нам о степени недовольства и о несносном характере этого персонажа еще больше. Более того, имя данного героя также становится значимым с точки зрения фоносемантики. Звук [с] имеет следующие характеристики по фоносемантической табли- це Журавлева: «плохой, отталкивающий, шероховатый, низменный, тусклый, тихий, короткий, трусливый, злой». Схожий с ним звук [с’] теряет характеристики: «отталкивающий, шероховатый, злой»; зато приобретает следующие: «маленький, женственный, слабый, легкий, печальный, хилый». Разумеется, звук [с] обладает высокой частотностью в русском языке, а потому с точки зрения фоносемантики менее информативен, однако же в имени «Сисой» фрикативная, глухая фонема /с//с’/ оказывается ощутимо частотной, а потому фонетически весомой.
Таким образом, анализ некоторых поздних рассказов А. П. Чехова дает нам возможность сделать определённый вывод: для достижения своих задач писатель использовал возможности фонетики. В частности, для дополнительной характеристики персонажей (зачастую персонажей второстепенных) – через передачу специфических фонетических особенностей их речи или же через звучание их имён; для «уплотнения» семантики повествования, которое реализуется за счет включения механизмов взаимодействия лексических и фонологических ресурсов языка, – писатель заставляет читателя использовать все перцептивные инструменты, включая и внутренний слух, с целью максимально эксплицировать ключевую идею произведения.
Tver State University
Department of Fundamental and Applied Linguistics
Список литературы Фоносемантические элементы в поздних рассказах А.П. Чехова
- Журавлев А.П. Звук и смысл. М.: Просвещение, 1981. 160с.
- Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. М.: КомКнига, 2007. 352 с.
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста. Анализ поэтического текста. СПб.: Азбука, 2015. 701 с.
- Николаева Т.М. От звука к тексту. М.: Языки русской культуры, 2000. 679с.
- Хоменко И.Б. Феноменология системы "норма-антинорма" (лингвоэтнокультурный аспект). Тверь: Лилия Принт, 2006. 184 с.
- Чехов А.П. Собрание сочинений: в 12т. Т.8. М.: Гослитиздат, 1956. 558с.