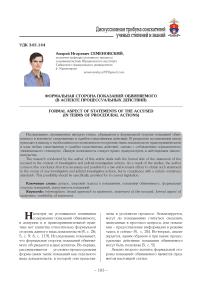Формальная сторона показаний обвиняемого (в аспекте процессуальных действий)
Автор: Семеновский А.И.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Дискуссионная трибуна соискателей ученых степеней и званий
Статья в выпуске: 1 (54), 2024 года.
Бесплатный доступ
Исследование, проведенное автором статьи, обращается к формальной стороне показаний обвиняемого в контексте следственных и судебно-следственных действий. В результате исследования автор приходит к выводу о необходимости и возможности получения таких доказательств правоприменителем в ходе любых следственных и судебно-следственных действий, однако с соблюдением определенного «минимального стандарта». Данную возможность следует прямо предусмотреть в действующем законодательстве.
Допрос, широкий подход к показаниям, показания обвиняемого, формальная сторона показаний, допустимость показаний
Короткий адрес: https://sciup.org/140304514
IDR: 140304514 | УДК: 343.144
Текст научной статьи Формальная сторона показаний обвиняемого (в аспекте процессуальных действий)
Н есмотря на устоявшееся понимание содержания показаний обвиняемого, в доктрине и в правоприменительной практике нет единства относительно формальной стороны данного вида доказательств [4, с. 26; 5, с. 9; 6, с. 119]. Исследование показывает, что формальная сторона показаний обвиняемого обсуждается в двух аспектах. Во-первых, рассматривается уголовно-процессуальная форма самих таких показаний как отдельного вида доказательств, в которой они представ- лены в уголовном процессе. Анализируется, могут ли показаниями считаться сведения, записанные в протокол допроса, или показания – предоставление информации в режиме «здесь и сейчас» [4, с. 26]. Во-вторых, анализируется, каким образом и при каких процессуальных действиях показания обвиняемого могут быть получены [5, с. 9].
Анализ второго аспекта формальной стороны показаний обвиняемого является предметом настоящей статьи.
Еще И.Я. Фойницкий с учетом анализа ст. 626 и 627 Устава уголовного судопроизводства приходил к выводу, что показания обвиняемого могут быть сообщены им перед судом в ходе допроса, а также содержаться в заявлениях, сделанных до суда, письменных (письма, личные дневники и т.п.) или устных, устанавливаемых со слов свидетелей, записанных в обвинительном акте, а также в протоколах, записанных судебным следователем, если об их исследовании просил обвиняемый [11, с. 263-264].
В советский период, например, Л.М. Кар-неевой отстаивалось мнение, что показания обвиняемого представляют собой его объяснения, полученные только и исключительно в ходе допроса в рамках предварительного расследования или в суде относительно отдельных обстоятельств уголовного дела [10, с. 600]. Такая позиция, стоит признать, соответствует легально закрепленному определению понятия показаний обвиняемого на сегодняшний день (ч. 1 ст. 77 УПК РФ). Р.Д. Рахунов полагал, что если сведения, содержащиеся в устных или письменных заявлениях обвиняемого, касаются фактов расследуемого события, то только на основании этого они уже могут рассматриваться в качестве показаний по уголовному делу [7, с. 35]. Некоторые ученые из судейского сообщества на сегодняшний день придерживаются позиции, согласно которой необходимо признать возможность получения показаний обвиняемого, устных или письменных, в ходе любых следственных и судебно-следственных действий, если они имеют значение для уголовного дела [6, с. 119].
Существует позиция, что показания обвиняемого могут быть получены только в ходе допроса и очной ставки. Данная позиция аргументируется тем, что если рассматривать в качестве показаний сведения, сообщенные в ходе иных процессуальных действий, то пропадает различие между собственно показаниями и протоколами указанных процессуальных действий [2, с. 182]. Однако фактически показания отражаются в протокольной форме тех же допроса и очной ставки (ст. 190, ч. 5 ст. 192 УПК РФ), содержание показаний привязывается к тому, как они отражены в протоколах, и точно так же такие протоколы оцениваются правоприменителем в качестве доказательств [1, с. 55; 3, с. 6; 4, с. 30; 12, с. 177-180].
Имеется также позиция, согласно которой показания обвиняемого могут быть получены в ходе: следственного и судебного допроса, опознания, проведенного во время предварительного расследования или в суде, очной ставки, проверки показаний на месте [5, с. 15]. Объясняется это тем, что в ходе указанных процессуальных действий обвиняемый может сообщить сведения относительно отдельных обстоятельств расследуемого события [5, с. 12-14].
В практике Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ встречаются примеры судебных актов, в которых показаниями именуются сведения, сообщенные обвиняемым в ходе производства проверок показаний на месте, очных ставок, даже в ходе обыска относительно принадлежности изымаемых наркотических средств1. Однако обыск не предполагает поиск только материальных следов, что проистекает из чч. 1 и 16 ст. 182 УПК РФ, и возникает вопрос: какую правовую природу потенциально могли бы иметь сообщенные в ходе данного следственного действия сведения от обвиняемого, непосредственно имеющие доказательственное значение? В силу того, что закон называет показаниями доказательства, полученные в виде сведений, сообщенных участниками уголовного судопроизводства, от которых предполагается получение именно показаний, то и указанные сведения фактически ими выступают (ч. 2 ст. 74 УПК РФ).
Подход к формальной стороне показаний обвиняемого, согласно которому они могут быть получены в ходе любых процессуальных действий, иногда именуют широким. Анализ практики высшей судебной инстанции по уголовным делам фактически демонстрирует такой подход к ним.
Предложения об изменении положений ч. 1 ст. 77 УПК РФ касательно легального расширения перечня следственных действий, в ходе которых могут быть получены показания обвиняемого, существуют в литературе относительно давно [2, с. 182; 5, с. 15]. Примеры из практики свидетельствуют о потребности в таком расширении, но вопрос об ограничении таких процессуальных действий рядом конкретных остается открытым.
С учетом отмеченной тенденции, которая имеется в судебной практике высшей инстанции по уголовным делам, обратим внимание на опыт регулирования показаний обвиняемого зарубежных стран. Например, согласно ч. 1 ст. 110 Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения под показаниями обвиняемого понимаются данные, сообщенные им в письменной или устной форме в досудебном производстве, а также в ходе допроса в суде, произведенного в порядке, установленном кодексом1. То есть перечень процессуальных действий, в ходе которых могут быть получены показания на досудебных стадиях, остается открытым. Согласно законодательству Республики Беларусь показания обвиняемого могут быть получены как в ходе допроса в суде или на досудебных стадиях, так и других следственных действий, в которых он принимает участие (ч. 1 ст. 92 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь2).
Исследователи показаний обвиняемого стран англосаксонской правовой семьи отмечают, что их правоприменитель может использовать любые сообщения от обвиняемого, полученные в устной и письменной форме официальными лицами (даже, например, в ходе звонка в «Службу спасения»), в качестве доказательств в суде при условии информированности лица о правах обвиняемого, даже когда он таким статусом еще не обладает [14, с. 394]. Однако подход на рас- ширение понятия показаний обвиняемого любыми сведениями, в том числе полученными до начала производства по уголовному делу, как представляется, должен вызывать опасение и споры, так как лицо еще не получило официальный статус обвиняемого, не может должным образом обеспечить себе защиту от обвинения, продумать линию защиты, реализовать цель дачи показаний обвиняемого, заключающуюся не только в сообщении доказательственной информации, но и защите своих прав и свобод.
Расширение формального аспекта показаний обвиняемого через указание на то, что ими являются сведения, сообщенные обвиняемым в ходе любого следственного действия, может иметь ряд позитивных моментов. В первую очередь это касается возможности предоставления обвиняемым незамедлительной аргументации своей позиции по делу, доказательственных сведений. Человек принимает решение на основании предыдущего опыта, который им принят и осознан, а также своих стереотипов, и психология принятия решений следователем не является исключением [13, с. 374]. Исходя из данного правила принятия решений, человек скорее принимает и ищет информацию, которая подкрепляет его опыт и стереотипы, сложившиеся убеждение, и чем ее больше, тем сложнее человеку изменить свое решение [13, с. 374]. Легальное закрепление в качестве показаний обвиняемого сведений, сообщаемых им в ходе любых следственных действий, обеспечит правовую возможность обвиняемого наиболее быстро реагировать на появляющийся в уголовном деле доказательственный материал. В случае придания указанным сведениям законного статуса показаний субъекты доказывания уже не смогут не принимать во внимание такие сведения по причине их неоднозначного правового статуса, вынуждены будут их оценить, смогут принять решение в пользу обвиняемого с меньшим психологическим противлением.
Подобный взгляд на формальную сторону показаний обвиняемого способствует по- лучению наиболее полных показаний от данного лица, так как позволяет использовать легально в качестве доказательства сведения, которые обвиняемый вспоминает в момент производства того или иного следственного действия, желает воспроизвести. Еще больше подкрепляет эту позицию рассмотрение в качестве показаний не только устных сведений, но и любых таких письменных сведений, пусть даже записанных обвиняемым собственноручно.
Каждое следственное и судебно-следственное действие возникало и развивалось для собирания и исследования определенного вида доказательств [9, с. 14]. Соответственно, именно процессуальная форма допроса развивалась для получения показаний с наиболее полным обеспечением прав и законных интересов допрашиваемых.
Показания обвиняемого, будучи рассматриваемыми в качестве средств защиты, имеют специфический процессуальный порядок их получения, обеспечивающий право на защиту [10, с. 612]. Это предопределяет ряд специальных условий и процедур, характерных для допроса обвиняемого, которые должны быть соблюдены при получении сведений от него, чтобы они могли бы рассматриваться в качестве показаний и использоваться в процессе доказывания по уголовному делу.
Так, специальным условием допроса обвиняемого является само по себе появление такого участника в уголовном деле (ч. 1 ст. 47 УПК РФ). В предусмотренных законом случаях обязательным участником допроса обвиняемого является его защитник (ч. 1 ст. 51 УПК РФ). Участие защитника в данном случае рассматривается практикой и теорией в качестве гарантии права на защиту [8, с. 8]. В отношении процедуры допроса обвиняемого существует ряд особых условий, помимо общей процедуры, предусмотренной ст. 164 УПК РФ, общих правил производства следственных действий и специфических условий, относящихся к допросу (ст. 189 УПК РФ). К таким особенностям можно отнести требование проводить первоначальный допрос немедленно после предъявления обвинения (ч. 1 ст. 173 УПК РФ), требова- ние по выяснению отношения к обвинению перед началом допроса, желания давать показания (ч. 2 ст. 173 УПК РФ), а также требование о допросе обвиняемого только по его просьбе при отказе давать показания на первоначальном допросе (ч. 4 ст. 173 УПК РФ). Закон имеет ряд требований к составлению протокола допроса, его содержанию, которые могут не указываться в иных протоколах допроса, если они не изменялись (чч. 2 и 3 ст. 174 УПК РФ). Относительно несовершеннолетних обвиняемых закон устанавливает специфический круг участников допроса, который в определенных случаях зависит от психических особенностей такого обвиняемого, а также инициативы иных участвующих в допросе лиц (ч. 3 ст. 425 УПК РФ). Такие участники также рассматриваются в качестве гарантов надлежащей защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего обвиняемого [6, с. 362]. Судебный допрос подсудимого регулируется специальной статьей, согласно положениям которой данный участник допрашивается при его на это желании, он допрашивается судом после допроса сторонами, председательствующий отклоняет наводящие и не относящиеся к делу вопросы, первым подсудимый допрашивается защитником и далее иными участниками стороны защиты; по ходатайству подсудимые могут допрашиваться без присутствия иных подсудимых, порядок допроса подсудимых может меняться (чч. 1, 4-5 ст. 275 УПК РФ). Кроме обозначенных условий и процедур, перед первым допросом обвиняемому объясняются права ст. 47 УПК РФ (ч. 6 ст. 47 УПК РФ), которые признаются обеспечением конституционного права обвиняемого на защиту (проистекающего из положения ст. 45 и 48 Конституции РФ). Отдельные права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, разъясняются обвиняемому повторно в случае неучастия защитника в ходе допроса на предварительном следствии (ч. 6 ст. 47 УПК РФ).
Анализ уголовных дел свидетельствует о том, что протоколы первоначального допроса обвиняемого на предварительном следствии, показания из которых признаны судами допустимыми доказательствами, содержат сведения о том, что обвиняемому разъяснены права ст. 47 УПК РФ, которые относятся именно к досудебному производству, то есть положения ч. 3 и п.п. 1-9 ч. 4 данной статьи, а не вообще все, предусмотренные ст. 47 УПК РФ1. В любом случае последующие протоколы допросов обязательно включают информацию о разъяснении прав обвиняемого, которые предусмотрены п.п. 3, 4, 7, 8 ч. 4 ст. 47 УПК РФ. При этом не зависит, присутствует защитник на таком допросе или нет.
Правоприменитель, в свою очередь, демонстрирует подход, согласно которому подсудимому до начала судебного разбирательства по существу разъясняются положения ст. 47 УПК РФ – как принадлежащие только данному участнику права, а также положения ст. 51 Конституции РФ2. На практике в судебном разбирательстве показаниями подсудимого считаются и его замечания на показания иных лиц и иные доказательства по делу3.
Таким образом, допрос обвиняемого требует соблюдения определенных гарантий права на защиту для признания его результатов допустимыми, заключающихся в участии определенного круга лиц в установленных законом случаях, во-вторых, как минимум в информировании обвиняемого о его уголовно-процессуальных правах, обеспечивающих конституционное право на защиту, предусмотренных ст. 47 УПК РФ.
Отметим, отдельные авторы по результатам анализа судебно-следственной практики отмечают, что нарушения норм УПК РФ в ходе следственных действий, обеспечивающих реализацию конституционных прав, влекут признание их результатов недопустимыми согласно п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ [9, с. 219-233].
Представляется, обвиняемый должен осознавать возможность использования сообщенных им сведений в процессе доказывания, что может выступить мотивом их сообщения или отказа от такового. Анализ протоколов допросов обвиняемого на предварительном следствии свидетельствует: обвиняемый всегда отдельно уведомляется о возможном использовании его показаний в качестве доказательств4.
Таковы минимальные требования к обеспечению собственно допроса обвиняемого. Вместе с тем определенно необходимо учитывать и иные условия допроса как такового, безотносительно к допросу конкретного участника уголовного судопроизводства, несоблюдение которых влечет недопустимость его результатов. Правовое регулирование следственного допроса предполагает свободу выбора допрашивающим тактики допроса и устанавливает запрет в части возможности задавать наводящие вопросы (ч. 2 ст. 189 УПК РФ).
При допросе подсудимого применяются аналогичные правила (ч. 1 ст. 275 УПК РФ). Закон не содержит ясной формулировки, что допрашивающий в суде свободен выбирать тактику допроса, но можно предположить, что такая свобода присутствует и на судебном допросе. Однако необходимо учитывать ограничения тактики допроса, которые прямо указаны для данного процессуального действия, а также принципы уголовного процесса и общие условия судебного разбирательства. Анализ судебно-следственной практики демонстрирует то, что суды проводят оценку поставленных в ходе допроса перед обвиняемым вопросов, признают полученные показания недопустимыми в части, когда дается ответ на наводящий вопрос5. В последнее время особое внимание уделяется времени производства допроса, оно должно также строго соблюдаться. Относительно соблюдения времени получения сведений, рассматриваемых в качестве показаний, это относится в целом к запрету на применение принудительных мер получения показаний, к которым, например, Верховный Суд РФ, согласно позиции, отраженной в п. 7 поста- новления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2022 г. N 20 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях против правосудия» относит нарушение времени на ведение допроса, а также перечисляет иные незаконные приемы допроса, к которым относит унижение, пытки и т.п., что можно отнести к запрещенным методам производства всех иных следственных действий.
Исходя из положений УПК РФ, анализа судебно-следственной практики и высказываемой в специальной литературе позиции относительно существенных нарушений закона, влекущих признание доказательств недопустимыми, минимальными стандартами для специальных условий и процедур в целях признания получаемых сведений показаниями обвиняемого в ходе следственного и судебно-следственного действия стоит признавать: участие в них соответствующих лиц, помимо условных допрашиваемого и допрашивающего, если по закону их участие признавалось бы обязательным в ходе допроса обвиняемого; информирование обвиняемого о его правах, предусмотренных ст. 47 УПК РФ, с учетом разъяснения ему о том, что получаемые от него сведения потенциально могут быть использованы в качестве допустимого доказательства по уголовному делу; соблюдение прямо установленных требований к тактике допроса.
Названные «минимальные стандарты» потому так и именуются в силу того, что суды наиболее пристально обращают внимание на их исполнение, а соблюдение указанных «стандартов» наиболее важно для реализации прав обвиняемого. Это касается и варианта получения таких показаний в ходе иных следственных, судебных действий. Не менее важны и другие процедурные особенности допроса, которые способствуют получению более полных показаний и относятся к допросу любых участников, например возможность пользоваться заметками, записями, документами в ходе допроса (ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 275, ст. 279 УПК РФ); необходимость по возможности дословно фиксировать даваемые показания от первого лица и задаваемые вопросы (ч. 2 ст. 190 УПК РФ). Однако данные и иные особенности процедуры допроса не относятся сугубо к обвиняемому, а практика и доктрина, как демонстрирует их анализ, не относит их нарушение категорично к столь существенным особенностям процедуры допроса, без соблюдения которых его результаты признаются недействительными.
Закон связывает формальную сторону показаний обвиняемого с их получением в ходе допроса в суде или во время предварительного расследования в соответствии с ч. 1 ст. 77 УПК РФ.
Согласно положениям чч. 1 и 2 ст. 1 УПК РФ порядок уголовного судопроизводства определяется собственно УПК РФ, основанным на Конституции РФ. Этот порядок является обязательным для всех участников уголовного судопроизводства.
Следовательно, основываясь на такой логике, можно сделать вывод о том, что данные показания должны быть приняты в качестве доказательств в уголовном деле, только если они были получены во время допроса в суде или в ходе предварительного расследования.
Закон также предусматривает определенные меры, которые можно считать проверочными в отношении результатов допроса. Эти меры включают проведение очной ставки, если имеются значительные расхождения между показаниями различных участников уголовного процесса (согласно ст. 192 УПК РФ), проведение опознания (согласно ст. 193 и 289 УПК РФ соответственно), проведение освидетельствования для проверки достоверности показаний (согласно ст. 179 и 290 УПК РФ), а также проверку показаний на месте для уточнения или проверки ранее полученных показаний (согласно ст. 194 УПК РФ). Хотя исследование показаний допустимо этими следственными и судебно-следственными действиями, принципиально новых показаний, исходя из буквального толкования положений УПК РФ, получить в ходе них невозможно. Для их получения нужно провести допрос.
Однако такой подход нивелируется на сегодняшний день разъяснением законодательства в отношении признания доказательств недопустимыми в случаях, прямо не установленных законом (то есть в случае, предусмотренном п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ). Так, согласно п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 г. N 51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)» доказательства признаются недопустимыми при наличии существенных нарушений в их собирании и закреплении, осуществлении указанных действий ненадлежащими лицами или в ходе непредусмотренных процессуальных действий.
Исходя из представленного толкования п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, эксперты в области уголовно-процессуального доказывания указывают на различение нарушений, которые возникают в процессе сбора доказательств, на существенные и несущественные нарушения [9, с. 219-233]. Последние, хоть формально и являются нарушением УПК РФ, к признанию доказательств недопустимыми не приводят. Основанием таких выводов исследователей служит и судебная практика, сформировавшаяся после принятия последнего из указанных постановлений Пленума Верховного Суда РФ.
Таким образом, с учетом имеющегося на сегодняшний день легального толкования положений ст. 75 УПК РФ, а также доктринальных воззрений относительно недопустимости доказательств, основанных на отмеченном толковании, представляется возможным получать показания обвиняемого в ходе любых следственных и судебно-следственных действий, в ходе которых были реализованы отмеченные минимальные стандарты (назовем их – гарантии) допроса в части его процессуальной формы их получения.
Некоторые исследователи отмечают, что при сообщении сведений, по которым опознающий кого-то или что-то опознал, он фактически сообщает сведения о воспринятом им расследуемом событии, которые традиционно составляют сущность сообщаемых на допросе показаний [5, c. 13]. Однако к таким сведениям закон использует термин «объяснения опознающего» (ч. 9 ст. 193 УПК РФ). Так, лица, участвующие в следственном дей- ствии, могут делать заявления, которые обязательны к внесению в протокол (ч. 4 ст. 166 УПК РФ). Если под термином «заявление» в данном случае понимать не только ходатайства, то стоит признавать, что такие заявления вполне могут содержать сведения, имеющие относящуюся к делу доказательственную информацию, то есть по существу являться показаниями. Как показал анализ практики судов, результаты которого отражены выше, получение показаний в ходе иных следственных и судебно-следственных действий неограниченного перечня – тенденция, вызванная практической необходимостью. При этом, как демонстрирует проведенный сравнительно-правовой анализ, данная тенденция характерна не только для российского государства. Однако, чтобы избежать разночтений в правоприменительной практике, в том числе в силу изменяющихся подходов к толкованию закона, положения УПК РФ в срезе формальной стороны показаний обвиняемого следует уточнить путем законодательного признания возможности получения показаний не только в ходе допроса, но и в ходе других следственных и судебно-следственных действий. Как было отмечено, такая практика уже установлена, например, в УПК Республики Беларусь.
Завершая, полагаем допустимыми следующие выводы. Подход к формальной стороне показаний обвиняемого с позиций возможности их получения как в письменной, так и в устной форме в ходе неограниченного круга следственных и судебно-следственных действий имеет практическую целесообразность для всех сторон уголовного судопроизводства, способствует как более оперативному получению доказательственной информации, так и более быстрому ее донесению стороной защиты. Такой подход характерен для законодательной практики ряда зарубежных стран. Анализ российской правоприменительной практики, в свою очередь, демонстрирует стремление к реализации такого подхода у высшей судебной инстанции. То есть, действительно, имеется практическая необходимость его реализации в российском уголовном судопроизводстве На сегодняшний день с учетом актуального толкования Верховным Судом РФ соответствующих положений УПК РФ в части недопустимости доказательств показания обвиняемого в целом представляется допустимым получать путем иных следственных и судебно-следственных действий кроме допроса. Однако необходимо соблюдать установленные минимальные стандарты при получении указанных показаний. Эти стандарты включают обязательное участие определенных лиц в процессе получения показаний, если их участие необходимо при данных условиях уголовного дела, информирование обвиняемого о его правах и последствиях выражения определенной информации, которая может стать доказательством в уголовном деле, и соблюдение запретов на тактику допроса.
Между тем проведенный анализ закона и его легального толкования свидетельствует о целесообразности именно законодательного закрепления правомочия на получение показаний обвиняемого в ходе иных процессуальных действий кроме допроса.
Список литературы Формальная сторона показаний обвиняемого (в аспекте процессуальных действий)
- Власова, Н.А. Перечень доказательств – это краткое изложение сведений, содержащихся в том или ином источнике / Н.А. Власова // Российская юстиция. – 2003. – N 9. – С. 55-56.
- Григорьев, В.Н. Уголовный процесс: учебник / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2008. – 816 с.
- Григорьева, Н.В. Исключение из разбирательства дела недопустимых доказательств / Н.В. Григорьева // Российская юстиция. – 1995. – N 11. – С. 5-7.
- Костенко, Р.В. Проблема определения процессуальной формы показаний обвиняемого / Р.В. Костенко, Е.В. Шульгина // Юридический вестник Кубанского государственного университета. – 2021. – N 2. – С. 23-32.
- Новиков, С.А. Показания обвиняемого в современном уголовном процессе России: монография / С.А. Новиков. – СПб.: Издат. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. – 240 c.
- Основы уголовного судопроизводства: учебник для бакалавров / М.В. Бубчикова, В.А. Давыдов, В.В. Ершов [и др.]; под ред. В.А. Давыдова и В. В. Ершова. – М.: РГУП, 2017. – 444 с.
- Рахунов, Р.Д. Доказательственное значение признания обвиняемого по советскому уголовному процессу / Р.Д. Рахунов // Советское государство и право. – 1956. – N 8. – С. 34-43.
- Смирнов, А.В. Следственные действия в российском уголовном процессе: учебное пособие / А.В. Смрнов, К.Б. Калиновский. – СПб.: СПбГИЭУ, 2004. – 73 с.
- Стельмах, В.Ю. Концептуальные основы следственных действий: монография / В.Ю. Стельмах. – М.: Юрлитинформ, 2017. – 288 с.
- Теория доказательств в советском уголовном процессе / Р.С. Белкин, А.И. Винберг, В.Я. Дорохов [и др.] ; отв. ред. Н.В. Жогин – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрид. лит., 1973. – 736 c.
- Фойницкий, И.Я. Курс уголовного судопроизводства: в 2 т. / И.Я. Фойницкий. – СПб.: Сенаторская типография, 1910. – Т. 2. – 572 с.
- Юрьев, Г.Ю. Допустимость показаний обвиняемого с точки зрения надлежащего источника их получения / Г.Ю. Юрьев // Государственная служба и кадры. – 2018. – N 4. – С. 177-180.
- Adams-Quackenbush, N.M. Where Bias Begins: A Snapshot of Police Officers’ Beliefs About Factors that Influence the Investigative Interview with Suspects / N.M. Adams-Quackenbush, R. Horselenberg, P. J. Koppen // Journal of Police and Criminal Psychology. – 2019. – N 34. – P. 373-380.
- Burnham, W. Introduction to the Law and Legal System of the United States / W. Burnham – NY: West Academic Publ., 1995. – 951 p.