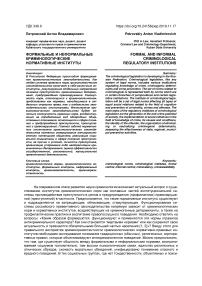Формальные и неформальные криминологические нормативные институты
Автор: Петровский Антон Владимирович
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 11, 2019 года.
Бесплатный доступ
В Российской Федерации происходит формирование криминологического законодательства. Как любая система правовых норм, криминологическое законодательство включает в себя различные институты, регулирующие отдельные направления познания преступности, криминогенных детерминант, предупреждения правонарушений. Совокупность норм, относящихся к криминологическим, представлена как нормами, находящимися в отдельных отраслях права, так и отдельными законодательными институтами. Институтом криминологического законодательства будет являться совокупность правовых норм, воздействующих на определенный вид однородных общественных отношений, относящихся к сфере познания и предупреждения преступности, преступлений и правонарушений. Главной задачей нормативных институтов криминологического законодательства является генерирование антикриминогенного потенциала общества, реализация социальной инициативы в сфере познания преступности, ее причин и условий, личности преступника, организация устранения либо нейтрализации криминогенных детерминант, оценка эффективности государственной, региональной, муниципальной превентивной деятельности.
Криминологические нормы, криминологические институты, формальный контроль, неформальный контроль, криминовалентность, криминорезистентность
Короткий адрес: https://sciup.org/149132446
IDR: 149132446 | УДК: 349.9 | DOI: 10.24158/pep.2019.11.17
Текст научной статьи Формальные и неформальные криминологические нормативные институты
НОРМАТИВНЫЕ ИНСТИТУТЫ
На современном этапе развития науки криминологии возникает актуальный вопрос о существовании институтов криминологических норм как составных частей институциональной системы противодействия преступности в целом и предупреждения (профилактики) правонарушений (преступлений) в частности. Предполагается, что такие нормативные институты существуют и подразделяются на запрещающие, обязывающие, стимулирующие. Функционирование системы российского превентивного законодательства напрямую зависит от криминологических норм и нормативных институтов, воздействующих на криминогенные детерминанты, а также на профилактические практики и воспитание правопослушного поведения. Необходимо ответить на вопросы: «Каким образом формируются, функционируют и применяются эти нормы (правила) антикриминального характера? Как они становятся “мертвыми нормами” или как сохраняют свою актуальность и признаются обязательными большей частью населения [1; 2]»? Ввиду этого для правильного восприятия криминорезистентности криминологических нормативно-правовых институтов необходимо исследование понимания традиционных (обычных), религиозных, корпоративных правил, которые объективизируют антикриминогенное поведение. Можно предположить, что там, где существует общность между формальными и неформальными нормами, воспринимаемая социумом положительно, там высоки психологические связи, единство религиозных и этнических обрядов, схожесть моральных убеждений, унифицировано понимание опасного и вредного поведения. В тех социальных группах, где нет тождественности, объективных и психи- ческих связей, отсутствует общий язык восприятия, использование различных антикриминаль-ных практик достаточно затруднено. В данном случае особое значение приобретает познание условий и предпосылок, норм и правил поведения, сложившихся в обществе, потому что преступным будет и может быть тот или иной акт не сам по себе, а лишь такой, который в психическом переживании квалифицируется как общественно опасный, психически переживается как преступный, как запрещенный социумом [3, с. 153].
Зарубежной криминологии известна теория, определяющая, что структура и изменения преступности зависят от доминирования в криминогенных ситуациях определенных общественных институтов, где моделирующую роль играют ценности и нормы социума [4]. В таком случае условием общественного признания институтов превентивного законодательства, особенно на региональном и муниципальных уровнях, будет такое состояние социума, где повиновение, готовность соблюдать и сберегать общественный порядок существует с согласия либо зависит от желания населения и основывается на обычных нормах поведения. Тогда антикриминальная стабильность государства будет обеспечиваться не только за счет применения административно-принудительных инструментов, но и посредством создания традиционных условий и генерации обычных норм для генезиса правопослушного поведения и нетерпимости к правонарушениям [5].
В статье институт будет определяться как система норм, имеющих фундаментальную социально-правовую идею, представляющую собой совокупность воспроизведенных в объективной реальности социальных инструментов, функций, ценностно-правовых правил и установок. Теория институциональных особенностей криминологических норм предусматривает изучение генезиса познания и предупреждения преступности, адаптацию формальных и неформальных превентивных норм к реальной действительности российского общества, антикриминальной и антиделиктной деятельности институтов власти, общества, индивидуумов на основе формальных и неформальных норм.
Говоря об институтах, мы признаем, что в современных сообществах действуют разные со-ционормативные регуляторы, которыми выступают различные нормы и правила поведения общественных групп в разных сферах общественных отношений [6, с. 39–40]. Это могут быть моральные, нравственные, религиозные, традиционные (обычные), управленческие (административноприказные), правовые и другие нормы. Соотношение или преобладание тех или иных соционорма-тивных регуляторов (институтов), их содержание определяются типом культуры и культурными особенностями конкретных народов, территориальными, корпоративными свойствами микрогрупп, проживающих на территории Российской Федерации. Перефразируя теорию дуализма структур применительно к криминологии, можно сказать, что свойства субъектов превентивного действия являются не только продуктами социальных структур, но и ресурсами для построения криминологических нормативных институтов, где общество является одновременно и условием, и воспроизводимым результатом профилактической человеческой деятельности [7, с. 28-29].
Нормативные криминологические институты - это относительно самостоятельные, устойчивые, упорядоченные формальные и неформальные нормы или системы норм, регулирующие интересы и отношения социальных групп (учреждений) с государством, принятие решений, деятельность, поведение, взаимодействие физических и юридических лиц в области познания преступности и ее детерминантов, разработки и реализации программ профилактики преступности, осуществления превентивной деятельности [8, с. 117]. Криминологические нормы, как и любые социальные нормы (правила, которым подчиняются социальные взаимодействия), проявляются, во-первых, в самой социальной деятельности, выраженной в поведении и социальных практиках разрешения деликтных конфликтов; во-вторых, в официальных текстах, издаваемых компетентными публично-властными субъектами (нормативные акты), актах высших судов; в-третьих, в устных текстах обычаев, традициях, корпоративных правилах для разрешения споров, возникающих из нарушения правил поведения [9, с. 12–13; 10, с. 90–91]. Можно констатировать, что максимальной эффективностью воздействия на криминогенные детерминанты (механизмом принуждения) обладает симбиоз нормативно-правовых актов (официальных законодательных институтов) и социально-традиционных норм (реальных социальных институтов), не всегда соответствующих официальному волеизъявлению.
Институционализмом в нормативной криминологической теории будет являться направление исследований, которое изучает формальные и неформальные криминологические нормативные институты как правила функционально обусловленной системы норм в области изучения (познания) преступности, криминогенных детерминантов и разработки форм предупреждения правонарушений и преступлений, которым реально подчиняется социальная деятельность. Институциональный нормативный подход предусматривает исследование криминологических процессов и институтов, основываясь как на социально-реальных нормах, так и на официальных текстах, где социальные нормы и законы – это институты, моделирующие криминологическую деятельность общества и индивидуума [11; 12].
Нормативные криминологические институты, используя предложенное В.Л. Тамбовцевым деление, можно классифицировать следующим образом [13]:
-
1) формальные институты для неопределенной социальной группы и неопределенных индивидуумов – это все законодательство, которое формирует правосознание и правопорядок в российском обществе;
-
2) формальные институты для определенной (конкретной) социальной группы и конкретного индивидуума (например, Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» касается индивидуумов, освободившихся из мест лишения свободы, либо Закон Краснодарского края № 1539-КЗ от 21 июля 2008 г . «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», который распространяет свое действие на лиц в возрасте от 1 до 18 лет, их родителей и организации Краснодарского края);
-
3) неформальные институты для неопределенной социальной группы и неопределенных индивидуумов – это общекультурные нормы, свойственные общности людей, проживающих на конкретной территории в определенный исторический период (это могут быть нормы шариата или адаты – свод традиционных правил народов Северного Кавказа);
-
4) неформальные институты для определенной (конкретной) социальной группы и конкретного индивидуума – внутрисемейные правила, этнокультурные обычаи субэтноса, традиции корпоративных групп, религиозные нормы, стыд (см. рис. 1).
Формальные нормативные институты
(законы, государственные и муниципальные органы и учреждения и др.)
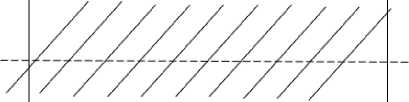
Предел (порог) регулирования
Неформальные нормативные институты (традиции, обычаи, корпоративные правила, культурные установки, семья, община, этнические группы и др.)
Рисунок 1 – Пределы регулирования формальных и неформальных нормативных институтов
Если классифицировать формальные криминологические институты в зависимости от формы легитимации, то можно выделить следующие категории [14, p. 11–50]:
-
1) международные – утвержденные Российской Федерацией общемировые практики и наименования криминологической деятельности, большей частью имплементированные в российские законодательные институты;
-
2) государственно-федеральные – самостоятельные структурные нормы федерального законодательства, устанавливающие общие положения криминологической деятельности, направления криминологической деятельности, программные установки;
-
3) ведомственно-специальные, являющие частью норм, обеспечивающих исполнение специальных правоохранительных функций криминологической направленности;
-
4) государственно-региональные – институты норм, которые изложены в региональных нормативных актах, обеспечивающих криминологическую деятельность органов и учреждений профилактики субъекта Федерации;
-
5) муниципальные – институт норм, отраженный в муниципальном законодательстве и реализующий криминологические функции органов местного самоуправления;
-
6) коммерческо-специальные – институт норм, регулирующих отношения, связанные
с профилактическими и познавательными функциями коммерческих организаций;
-
7) некоммерческие – институты норм, связанные с регулированием участия общественных организаций, оказывающих содействие государственным и муниципальным учреждениям в осуществлении криминологической деятельности.
В реализации криминологических норм участвуют номинальные и фактические субъекты. Номинальные субъекты – это социальные группы или индивидуумы, к которым в целом относится воздействие данных норм или криминологического института. В свою очередь фактические субъекты – это социальные группы или индивидуумы, которые реально и фактически в силу нормативно-правовых обязанностей, правовых установок, традиций, обычаев обязаны следовать установкам данного криминологического института.
Характеризовать каждый отдельный институт системы криминологических норм можно:
-
1) по типу и множественности субъектов и объектов, деятельность которых регулирует совокупность социальных норм, представленных конкретным институтом (например, контроль за семьями, находящимися в социально опасном положении, родительский контроль и др.);
-
2) в зависимости от номинального или фактического воздействия на объекты;
-
3) по множественности субъектов, фактически соблюдающих социальные нормативные положения соответствующего криминологического института;
-
4) по глубине формализации (нормативного правового закрепления и отражения в социальной действительности) содержания криминологического института;
-
5) по механизму потестарного и официального контроля (принуждения) соблюдения и исполнения криминологических социальных норм;
-
6) по объему и области принятия управленческих и потестарных решений, характеру взаимоотношений между субъектами и объектом.
Детализируя предметную сторону криминологии, отметим, что наука изучает социальную реальность, криминогенные и антикриминогенные явления реальной общественной жизни, превентивную эффективность правовых и социальных норм. Это позволяет сделать вывод, что построение институциональной нормативной криминологической системы предполагает изучение формальных и неформальных норм (институтов) познания преступности, причин преступности и ее профилактики. Формальные и неформальные институциональные системы криминологических норм находятся во взаимодействии, отражают закономерности генезиса российских институтов антикриминальной превенции. Кооперация формальных (нормативно-правовых) и неформальных (обычно-традиционных) социальных норм и институтов позволяет создавать и реализовывать эффективные программы превенции правонарушений, а антагонизм генерирует преступность и произвол.
Ссылки:
-
1. Дробышевский С.А., Орлова С.В. О «мертвых» юридических правилах // Евразийский юридический журнал. 2015. № 5 (84). С. 113–116.
-
2. Стругова Е.В. К вопросу о реализации права и «мертвых нормах» в российском законодательстве // Вестник общественной научно-исследовательской лаборатории «Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты». 2016. № 6. С. 201–207.
-
3. Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали. М., 2006. 504 с.
-
4. Зигмунт О.А., Ветцелс П. Институциональная теория аномии – эмпирическая проверка // Социологические исследования. 2015. № 4. С. 78–87.
-
5. Бём Ф., Ойкен В., Гроссман-Дёрт Г. Наша задача (ордо-манифест) [Franz Böhm, Walter Eucken and Hans Grossman-Doerth. The Ordo Manifesto of 1936] / пер. А.А. Курышевой // Социальное рыночное хозяйство: концепция, практический опыт и перспективы применения в России / под общ. ред. Р.М. Нуреева. М., 2007. С. 22–31.
-
6. Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства : учебное пособие. М., 2003. 204 с.
-
7. Гидденс Э. Социология. М., 1999. 704 с.
-
8. Седов Л.А. Современная западная социология : словарь. М., 1990. 432 с.
-
9. Аннерс Э. История европейского права : пер. с швед. М., 1999. 395 с.
-
10. Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. М., 1978. 270 с.
-
11. MacCormick N., Weinberger O. An Institutional Theory of Law: New Approaches to Legal Positivism. Dordrecht, 1986. 229 p.
-
12. MacCormick N. Institutions of Law: An Essay in Legal Theory. Oxford, 2007. 336 p.
-
13. Тамбовцев В.Л. Теоретические вопросы институционального проектирования // Вопросы экономики. 1997. № 3. С. 82–95.
-
14. Morton P. An Institutional Theory of Law: Keeping Law in its Place. Oxford, 1998. 416 p.
Список литературы Формальные и неформальные криминологические нормативные институты
- Дробышевский С.А., Орлова С.В. О "мертвых" юридических правилах // Евразийский юридический журнал. 2015. № 5 (84). С. 113-116
- Стругова Е.В. К вопросу о реализации права и "мертвых нормах" в российском законодательстве // Вестник общественной научно-исследовательской лаборатории "Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты". 2016. № 6. С. 201-207
- Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали. М., 2006. 504 с
- Зигмунт О.А., Ветцелс П. Институциональная теория аномии - эмпирическая проверка // Социологические исследования. 2015. № 4. С. 78-87
- Бём Ф., Ойкен В., Гроссман-Дёрт Г. Наша задача (ордо-манифест) [Franz Böhm, Walter Eucken and Hans Grossman-Doerth. The Ordo Manifesto of 1936] / пер. А.А. Курышевой // Социальное рыночное хозяйство: концепция, практический опыт и перспективы применения в России / под общ. ред. Р.М. Нуреева. М., 2007. С. 22-31
- Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства: учебное пособие. М., 2003. 204 с
- Гидденс Э. Социология. М., 1999. 704 с
- Седов Л.А. Современная западная социология: словарь. М., 1990. 432 с
- Аннерс Э. История европейского права: пер. с швед. М., 1999. 395 с
- Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. М., 1978. 270 с
- MacCormick N., Weinberger O. An Institutional Theory of Law: New Approaches to Legal Positivism. Dordrecht, 1986. 229 p
- MacCormick N. Institutions of Law: An Essay in Legal Theory. Oxford, 2007. 336 p
- Тамбовцев В.Л. Теоретические вопросы институционального проектирования // Вопросы экономики. 1997. № 3. С. 82-95
- Morton P. An Institutional Theory of Law: Keeping Law in its Place. Oxford, 1998. 416 p