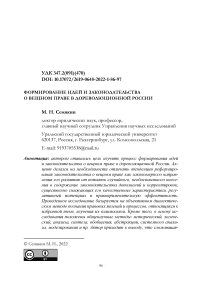Формирование идей и законодательства о вещном праве в дореволюционной России
Автор: Семякин М.Н.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Гражданское, семейное и предпринимательское право
Статья в выпуске: 1, 2022 года.
Бесплатный доступ
Автором ставилась цель изучить процесс формирования идей и законодательства о вещном праве в дореволюционной России. Акцент делался на необходимости отличать тенденции реформирования законодательства о вещном праве как закономерного направления его развития от попыток случайного, необоснованного внесения в содержание законодательства дополнений и корректировок, существенно снижающих его качественные характеристики, регулятивный потенциал и правоприменительную эффективность. Проведенное исследование базируется на объективном диалектическом методе познания правовых явлений и процессов, относящихся к избранной теме, изучения их взаимосвязи. Кроме того, в основу исследования положены общенаучные методы: исторический, логический, анализа, синтеза, обобщения, абстракции, системного анализа, моделирования и пр. Автор приходит к выводу, что сложившаяся в дореволюционной России система вещных прав по ряду моментов вполне соответствовала передовым для того времени европейским представлениям о вещном праве, обладая при этом своей российской самобытностью и особенностями.
Вотчинное право, вещное право, право собственности, недвижимость
Короткий адрес: https://sciup.org/147236829
IDR: 147236829 | УДК: 347.2(091)(470) | DOI: 10.17072/2619-0648-2022-1-86-97
Текст научной статьи Формирование идей и законодательства о вещном праве в дореволюционной России
И в дореволюционной, и в современной литературе высказывались различные, порой противоречивые, соображения по поводу «истоков» вещного права. Согласно одним, понятие «вещные права» этимологически связано с римским частным правом и получило достаточную разработку в данной правовой системе. Например, Л. В. Щенникова обращает внимание на то, что понятие личного сервитута было сформировано еще в римском частном праве1. И далее: «Другие вещные права в виде прав на чужие ве- щи появились в своем первоначальном виде в римском частном праве наряду с правом собственности и продолжают до настоящего времени с ним добрососедствовать»2.
Приведенные высказывания автора, как представляется, несколько не согласуются с его мыслями, высказанными ниже: «“Римский” этап развития отношений собственности, получивший закрепление в нормах римского частного права, характеризуется свободой собственности, не связанной ничем... Носитель права собственности в Риме имел всестороннюю возможность пользоваться и распоряжаться вещью, а также исключать вмешательство всех прочих лиц в сферу своего господства. Классическая юриспруденция понимала собственность как неограниченное и исключительное господство лица над вещью, как право, свободное от ограничений по своему существу»3. Причем свобода собственности предполагалась; что же касается ее ограничений, то «всякое ограничение собственности» должно было быть «доказано»4.
Однако далее Л. В. Щенникова говорит о введении «узкого круга ограниченных вещных прав в римском частном праве», а затем и о том, что нам в наследство от римского частного права досталась довольно разработанная система сервитутов, «а также такие ограниченные вещные права, как эмфитевзис, суперфиций, залоговое право»5.
Противоположную позицию по обсуждаемой проблеме занимает Е. А. Суханов, который, говоря об идее происхождения вещных прав из римского права, замечает, со ссылкой на известного дореволюционного правоведа С. А. Муромцева, что «в этом взгляде отразилась давно ставшая в цивилистике традиционной “наклонность освящать идеи и явления современного происхождения покровом векового авторитета римского права”»6. И далее: «В действительности дошедшие до нас источники римского частного права не содержат (и не могли содержать) таких обобщенных, абстрактных понятий, как “вещное право” или “ограниченные вещные права”, ибо римской юриспруденции было “почти совершенно чуждо распределение материала на основании общих понятий и принципов, составляющее характеристическое свойство догматической классификации”»7.
Многие из отечественных дореволюционных романистов весьма скептически относились к идее происхождения вещных прав из римского частного права. Так, по мнению Д. Д. Гримма, древнеримское право «не знало противоположения между правом собственности и ограниченными вещными и личными правами на чужие вещи. Всякое отношение к вещи мыслилось как разновидность единого права – права собственности»8. И далее: изначально сервитутное право не было «правом в чужой вещи», а считалось «как бы правом на свою вещь, которой пользовались только совместно с собственником служащего имения», в силу чего сервитутное право «первоначально во всем сходно с юридическим положением собственности»9.
В связи со всем изложенным представляется необходимым обратить внимание на следующее.
Во-первых, таких абстрактных, научно «нагруженных» категорий, как «вещное право», «ограниченные вещные права», в римской юриспруденции не было и принципиально быть не могло, ибо для этого необходимо достичь очень высокого уровня научных обобщений и сравнительного теоретического анализа, на основе чего могли бы быть выработаны указанные феномены.
Во-вторых, всю свою более чем тысячелетнюю историю римская юриспруденция находилась в постоянном развитии, приспособлении к практическим нуждам, поэтому на ранних этапах могли возникать лишь отдельные мыслительные прообразы (прототипы) соответствующих понятий, которые в дальнейшем эволюционировали, наполняясь более конкретным содержанием и принимая те или иные правовые формы. Так, в римской юриспруденции сервитутное право изначально воспринималось как разновидность участия в собственности, когда одно лицо могло пользоваться вещью, главным образом земельным участком, совместно с другим лицом в рамках «единой собственности», и лишь значительно позднее, в императорский период, оно стало мыслиться как «право в чужой вещи».
Аналогично такие права, как суперфиций и эмфитевзис, в римском частном праве, в его первородном состоянии, отсутствовали. Как права на особую категорию недвижимости – земельные участки – они возникли уже в Новое время и, в отличие от сервитутов, носили долгосрочный и отчуждаемый характер, могли передаваться по наследству10. К этой же исторической эпохе относится и возникновение залогового права с его разновидностями (pignus и hypotheca).
Однако все указанные выше виды прав в отношении объектов недвижимости в римской юриспруденции, даже на ее высшем и завершающем этапе развития, ознаменованном столь выдающимся историческим памятником римского права, как Дигесты Юстиниана, не мыслились в сознании римских юристов как отдельные разновидности некоего единого понятия – «права на чужую вещь» и тем более не именовались таким общим термином, как «ограниченные вещные права».
В-третьих, как свидетельствуют выдающиеся исторические памятники римского права, в римской юриспруденции предпринимались некоторые попытки разграничения вещных и обязательственных прав. Так, в Институциях Гая (ок. 160 г. н.э.), состоящих из четырех книг, фактически выделялись три раздела, посвященные соответственно лицам, вещам и искам; автор в книге третьей говорил о наследовании и некоторых обязательствах как основаниях возникновения права собственности на вещи11. Примечательно, что Гай различает, с одной стороны, наследование и соответствующие обязательства, а с другой – право собственности как их результат, хотя, конечно, такое различие содержательно не затрагивает противопоставления вещных и обязательственных прав, их отличительных особенностей.
Другой известный римский юрист Юлий Павел обращал внимание на сущность обязательства, которая, по его мысли, состоит «не в том, чтобы сделать какой-нибудь предмет... нашим, но чтобы обязать другого перед нами с тем, чтобы он что-нибудь нам дал, сделал или предоставил»12. Однако вряд ли в данном высказывании содержатся критерии, позволяющие более или менее определенно разграничивать вещные и обязательственные права либо вывести отсюда их общие определения. Римские юристы мыслили различие вещных и обязательственных прав главным образом в контексте различия способов их защиты – вещных и личных исков.
На основании изложенного можно сделать следующий общий вывод: маловероятно, что нормы римского права, касающиеся вещных прав, могли выступать в качестве «истоков» представлений о вещном праве в дореволюционной России. Оснований для этого не давала и существовавшая в то время законотворческая практика.
По поводу вещного права в дореволюционной России в проекте Гражданского уложения Российской империи, в книге третьей «Вотчинное право», имеется несколько разделов, посвященных общим положениям, праву собственности, владению, вотчинным правам в чужом имуществе, залогу и закладу, основным видам поземельной собственности. Однако в целом нормы названных разделов не представляли собой четкой, логически стройной системы института вещных прав, хотя они во многом опирались на передовые для того времени кодификации вещных прав, содержавшиеся в Германском гражданском уложении, Швейцарском гражданском кодексе.
В России термин «недвижимость» появился в законодательстве сравнительно поздно – в XVIII в. Хотя понятие движимых и недвижимых вещей, по словам известного дореволюционного государственного деятеля и цивилиста, «древнее, но самые термины употребляются на юридическом языке не ранее Петра. Мы не встречаем в законодательстве общего начала, по коему следовало бы судить о принадлежности имущества к тому или другому разряду: их относит к тому или иному разряду непосредственно буква закона, исчисляя самые виды»13. Примечательно, что сначала такие объекты, как поместье и вотчина, были слиты воедино и обозначались одним термином «недвижимость», однако вскоре было восстановлено различие вотчин «родовых», «выслуженных» и «купленных», что послужило основанием для выделения особенностей правового режима «родового» и «благоприобретенного» имущества.
Общие черты различия между «родовым» и «благоприобретенным» имуществом сформировались лишь при императрице Екатерине II (1785 г.), когда в законодательстве установилось определение права «полной собственности», однако окончательно эти отличительные признаки были определены редакцией Свода законов14. В целом же формирование вещного права в России как институционального образования произошло лишь во второй половине XIX в., после отмены крепостного права15.
Следует, однако, заметить, что в действовавшем дореволюционном законодательстве и цивилистической доктрине было немало «разночтений» и несогласованных моментов терминологического и иного характера. Так, в книге второй Свода законов гражданских Российской империи регламентированы различные права на имущество, значительное место среди которых занимают вещные права, в том числе вотчинные16: право собственности, право собственности неполное (право участия в пользовании и выгодах чужого имущества), то есть ограниченное вещное право. При этом книга третья проекта Гражданского уложения Российской империи посвящена регламентации «вотчинного права»17, где ограниченные вещные права уже обозначены как «вотчинные права в чужом имуществе».
Примечательно, что в литературных источниках того времени вотчинные права именовались как «вещные права»18. Кроме того, к категории вотчинных прав, в соответствии с разделами VII и VIII книги третьей проекта Гражданского уложения, относились «авторское право» и «право на изобретения, на товарные знаки и на фирму». Объяснить это можно было, по словам К. П. Победоносцева, «относительной юностью законодательства нашего и языка, не успевшего еще выработать свою терминологию для науки права, едва только зарождавшейся у нас при издании Свода Законов»19.
Хотя, в противоположность описанной выше позиции, известный дореволюционный цивилист Г. Ф. Шершеневич исключительные права – авторское, художественное, музыкальное, фирменное, привилегии на промышленные изобретения и некоторые другие – выделял в особый вид (помимо вещных прав) абсолютных прав20.
Отличительное свойство вотчинного права (вещного права) в дореволюционный период, по мысли К. П. Победоносцева, «состоит в том, что в нем содержится господство над имуществом, имеющим значение вещи... и притом господство непосредственное, так что хозяин простирает все действие своего права непосредственно своим лицом на самую вещь, без отношения к какому-либо другому лицу, и не через другое лицо, а сам собою»21. Поэтому
«когда лицо простирает свое право на вещь посредством другого лица, обязавшегося перед ним и в его пользу действовать или удерживаться от действия в этой вещи... это будет уже не непосредственное отношение к вещи, следовательно, не вещное право»22. С этих позиций право арендатора земельного участка нельзя считать вещным правом, поскольку здесь отсутствует абсолютное «непосредственное господство» лица над вещью, арендатор «простирает свое право на вещь» посредством другого лица – арендодателя, обязавшегося перед первым и в его пользу совершить определенные действия либо воздержаться от таковых.
Аналогичных взглядов относительно сущности вещного права придерживался и ряд иных дореволюционных правоведов-цивилистов23.
Однако в отличие от европейских правопорядков, рассматривавших земельный участок и находящиеся на нем иные объекты недвижимости как один (единый) объект недвижимости, в дореволюционном российском законодательстве и доктрине господствовал широкий подход, согласно которому земельный участок и находящиеся на нем строения и сооружения воспринимались как самостоятельные объекты недвижимости. Так, согласно статье 384 Свода законов гражданских Российской империи, «недвижимыми имуществами» признаются по закону земли и всякие угодья, дома, заводы, фабрики, лавки, всякие строения и пустые дворовые места, а также железные дороги. Аналогичное положение было закреплено и в статье 32 проекта Гражданского уложения.
Что касается системы вотчинных прав (вещных прав), то, по замечанию Г. Ф. Шершеневича, их число «весьма незначительно»24, а по словам К. П. Победоносцева, «отдельных видов вотчинного права весьма немного, и в течение веков остаются почти неизменными виды эти, издревле сущест-вующие»25.
Первый из вышеназванных правоведов главное место среди вещных прав отводил праву собственности как основе всего современного (применительно к тому времени) гражданского правопорядка. К праву собственности примыкают, по мысли данного автора, права на чужую вещь, состоящую в собственности другого лица, а именно сервитуты и чиншевое право, к коим «причисляется обыкновенно и залоговое право. Но, ввиду резкого отличия его от прав на чужую вещь, оно должно быть поставлено особо. <...> Как бы введением к изложению вещных прав является владе-ние»26.
Другой дореволюционный цивилист К. П. Победоносцев пытался осмыслить систему вотчинных прав в свете положений Свода законов гражданских Российской империи, обращая внимание на то, что «вообще система вотчинных прав далеко еще не установилась ни в науке, ни в новейших кодексах гражданского права», и указывая на ее «неопределенность»27. Как отмечал названный автор, «у нас вотчинные права помещены во 2-й и 3-й книгах 1 ч. X т. Св. Зак. Гражд.; но к числу их отнесены нераздельно – и наследство, и завещание, и право выкупа»28. И далее он излагал «постановления», содержащиеся во второй и третьей книгах и касающиеся соответственно «порядка приобретения и укрепления прав на имущество вообще » и «порядка приобретения и укрепления прав на имущество в особенности », хотя из этих рассуждений трудно понять, относил ли сам автор все названные им права к числу вотчинных прав, за исключением права выкупа, которое он прямо причислял к системе вотчинных прав.
Рассуждая по поводу термина «владение», К. П. Победоносцев обращал внимание прежде всего на его «пространный смысл», позволявший применять данное понятие и для обозначения права «наемщика, пользующегося имуществом по договору». Однако «от употребления этого слова пользование наемщика или арендатора все-таки не становится вотчинным правом»29. И далее, возвращаясь к этой проблеме, К. П. Победоносцев замечал: «К категории вотчинных прав надлежит отнести, кроме права собственности, всякое владение, имеющее вотчинный характер, то есть безусловную силу относительно третьих лиц»30. По мысли автора, к этой категории относится такое владение, которое происходит не из личного отношения и не из договора, а существует «само по себе» и в законных пределах своих не уступает никакому иному вотчинному праву, существует «своей силой» и действует, требуя признания «от всякого». Под эти условия, как полагал автор, «подходит и пожизненное владение, и непрерывное сословное владение казенною землей, хотя и то, и другое признают над собою верховное право собственности на имущество, но в этом признании сохраняют твердость и уверенность вотчинника»31.
Что же касается права залога, включенного в книгу четвертую «Об обязательствах по договорам» Свода законов гражданских, то, по замечанию К. П. Победоносцева, оно одними авторами относится «к отделу вещных прав», а другими – «к системе обязательств». О залоге можно говорить «и в том, и в другом отношении», исходя из того, в связи с чем «представляется удобнее изъяснить право залога – в связи ли с вещными правами или с обязательственными». По мысли автора, «первое и удобнее, и согласнее с сущностью залога, которым утверждается на чужом имении право, безусловно обязательное для всех третьих лиц»32.
В целом можно заключить, что сложившаяся в дореволюционной России система вещных прав по ряду моментов вполне отвечала соответствующим передовым для того времени европейским представлениям о вещном праве, обладая при этом своей российской самобытностью и особенностями.
Во-первых, вещное право мыслилось как право, основанное на непосредственном господстве лица в отношении вещи (объекта недвижимости) и носящее публичный характер.
Во-вторых, в разных дореволюционных источниках пра́ ва для обозначения, по существу, одного и того же явления юридической действительности использовались два термина: древнее «вотчинное право» и «вещное право» (в новом русском законодательстве и на практике). Однако, по замечанию Г. Ф. Шершеневича, замена «вещного права» термином «вотчинное право», как старым русским выражением, не устранила бы «необходимости в термине для обозначения соответствующего права на недвижимости»33.
В-третьих, в дореволюционном российском законодательстве и господствовавшем в научном сообществе мнении не признавалась модель «расщепленной собственности» – одновременного существования нескольких самостоятельных прав собственности на один и тот же объект недвижимости. Хотя следует заметить, что подобные идеи прямо либо в опосредованной форме выдвигались отдельными авторами. Так, известный дореволюционный государственный деятель и правовед, систематик нового русского законодательства граф М. М. Сперанский, рассуждая о собственности, утверждал, «что и наемщик имеет право собственности на нанятое имущество, хотя и не в тех границах, как первоначальный собственник; что наем и условное пользование есть один из способов, коими приобретается собственность имуществ»34. К. П. Победоносцев, говоря о пожизненном владении и непрерывном сословном владении «казенною землею» как «вотчинных правах», замечает, что то и другое «признают над собою верховное право собственности на имущество»35.
В-четвертых, в противоположность ряду европейских правопорядков российское дореволюционное законодательство и практика его применения исходили из римской юридической традиции, согласно которой невозможно совмещение в одном лице права собственности и ограниченного вещного права на один и тот же объект.
В-пятых, дореволюционное российское законодательство к системе вотчинных прав (вещных прав) относило также авторское право, право на фирму и некоторые другие права в сфере «промышленной собственности», что в отечественной литературе того времени в ряде случаев воспринималось критически.
В-шестых, российское дореволюционное законодательство в порядке укрепления вещных прав придавало им преимущественное значение перед обязательственными правами в случае их столкновения.
Список литературы Формирование идей и законодательства о вещном праве в дореволюционной России
- Васьковский Е. В. Учебник гражданского права. М.: Статут, 2003.
- Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов н/Д: Феникс, 1995.
- Гримм Д. Д. Проблема вещных и личных прав в древнеримском праве // Вестник гражданского права. 2007. № 3.
- Зайков А. В. Римское частное право в систематическом изложении: учеб. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012.
- Кодификация российского гражданского права: Свод законов гражданских Российской Империи; Проект Гражданского уложения Российской Империи; Гражданский кодекс РСФСР 1922 года; Гражданский кодекс РСФСР 1964 года. Екатеринбург: Изд-во Института частного права, 2003.
- Муромцев С. А. Гражданское право Древнего Рима. М.: Консультант плюс, 2003.
- Муромцев С. А. Очерки общей теории гражданского права // Муромцев С. А. Избранные труды по римскому и гражданскому праву. М.: Центр ЮрИнфоР, 2004.
- Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Диге-сты Юстиниана. М.: Зерцало, 1997.
- Победоносцев К. П. Курс гражданского права: в 3 т. / под ред. и с пре-дисл. В. А. Томсинова. М.: Зерцало, 2003. Т. 1.
- Синайский В. И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. Суханов Е. А. Вещное право: науч.-познават. очерк. М.: Статут, 2017. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.) / вступ. ст. Е. А. Суханова. М.: СПАРК, 1995.
- Щенникова Л. В. Вещное право: учеб. пособие. Пермь: Изд-во Пермского университета, 2001.