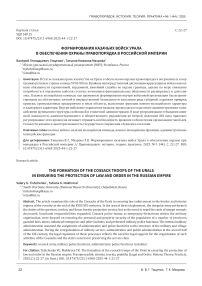Формирование казачьих войск Урала в обеспечении охраны правопорядка в Российской империи
Автор: Тищенко В.Г., Махрова Т.К.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: История и общая теория обеспечения правопорядка
Статья в выпуске: 1 (44), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье показана роль казачества на Урале в обеспечении охраны правопорядка в пограничных и внутренних регионах страны в конце XVIII-XIX вв. В районе непосредственной дислокации иррегулярное войско выполняло обязанности гарнизонной, кордонной, линейной службы по охране границы, однако по мере снижения потребности в отражении набегов степных кочевников функциональные обязанности расширялись и дополнялись. Казачьи полицейские команды как временные формирования внутри войсковой организации были ориентированы на обеспечение личной и имущественной безопасности населения ряда губерний, охраняли ярмарки, прииски, промышленные предприятия и иные объекты, выполняли функции военно-полицейского характера и надзорного характера. Внутри войсковое управление казаков, предполагало наделение административно-полицейскими функциями структуры войсковой и станичной администрации. В ходе реорганизации отбывания воинской повинности, административного и общественного управления во второй половине XIX века правовое регулирование этих процессов начинает отражать необходимость правового обеспечения организации такой деятельности казаков и заинтересованность государства в сохранении служилого сословия.
Казачье войско, казачья полицейская команда, военно-полицейские функции, административно-полицейские функции
Короткий адрес: https://sciup.org/14133276
IDR: 14133276 | УДК: 340.15 | DOI: 10.47475/2311-696X-2025-44-1-22-27
Текст научной статьи Формирование казачьих войск Урала в обеспечении охраны правопорядка в Российской империи
Поступательный процесс обретения и освоения Российским государством новых земель в XVIII–XIX вв. определил особую роль казачьих войск в государственной системе России. Деятельность казачества являлась одним из факторов развития российской государственности, политического и хозяйственного освоения, в частности, юго-восточного порубежья, где казачьи войска формировались решением правительства (Зауралье, Сибирь, Дальний Восток, в отличие от «естественно-исторического» пути образования для Запорожья, Дона, Терека, Яика, с их внутриобщинной автономной «вольницей»). Здесь решались задачи и охраны границ (гарнизонная, кордонная, линейная служба для защиты края от степных кочевников), и освоения новых территорий. Однако освобожденные от рекрутской повинности и государственных податей казаки несли службу, выходящую далеко за рамки линейной и кордонной охраны рубежей России. Уже с 1790 г. оренбургских казаков привлекали и для участия во внешних войнах, они участвовали во всех крупных битвах российских вооруженных сил. Сначала эпизодически, а затем на постоянной основе казачьи формирования были задействованы и в поддержании внутреннего правопорядка в различных регионах империи. Такое расширение функциональных обязанностей, наряду с необходимостью поддерживать боевую готовность и хозяйственную самодостаточность, становилось во второй половине XIX в. одним из основных противоречий сословного статуса казачества.
Описание исследования
Круг обязанностей служилых людей длительное время не регламентировался, ограничиваясь лишь традициями, обычаями, ситуативной потребностью в привлечении вооруженных формирований. Городовые казаки несли гарнизонную, пограничную и полицейскую службу на «засечных» линиях преимущественно по южным и восточным границам Русского государства. До конца XVII в., когда активизируется строительство военных городов-крепостей с гарнизонами городовых казаков, упоминание о правовом статусе служилых казаков эпизодически встречается в документах общего характера. В 30–40-е гг. XVIII в., с началом деятельности Оренбургской экспедиции, на Южном Урале создается система приграничных укрепленных линий, в 1744 г. формируется Оренбургский нерегулярный казачий корпус, а указом от 24 мая 1748 г. все казачьи формирования на территории Уфимской и Исетской провинций официально зачисляются в состав Оренбургского казачьего войска, в 1798 г. создается еще одно иррегулярное казачье формирование — Башкиро-Мещерякское войско [1, с. 78, 81].
Начиная с этого времени и на протяжении всего XIX в. активно осуществляется правовое регулирование практически всех сторон жизни казачьих общин и войсковой организации. Для Оренбургского казачьего войска важнейшие акты были приняты в 1803, 1840, 1867, 1870, 1891 гг. Нормативные акты, лежавшие в основе создания и реформирования иррегулярного войска, уже содержали нормы, разграничивавшие сугубо военные функции от ряда охранительных и полицейских. Практически все функциональные обязанности служилого сословия, в том числе и военно-полицейские, регламентировались общегосударственными воинскими уставами и инструкциями. Будучи частью «силовых структур», Оренбургское казачье войско совместно с полицией и регулярной армией осуществляло, как на войсковой территории, так и за ее пределами, значительный объем военно-полицейской деятельности. Существенную роль казаки сыграли в обеспечении общественного порядка и борьбы с преступностью в других губерниях империи.
Практика привлечения казаков для выполнения полицейских функций на протяжении XIX века получала все большее распространение, как на Урале, так и за его пределами [2, с. 116]. Мы рассмотрим эту практику и ее роль в жизни казачьего войска как составляющей части российских вооруженных сил и как общины с регулируемым государством объемом самоуправления, учитывая мнение ряда исследователей (В. С. Кобзова, В. М. Шадрина) о разделении полицейских функция казачьего войска на военно-полицейские и административно-полицейские [3, с. 118].
Организация регулярной полиции в соответствии с «Учреждением для управления губерний» 1775 г. и «Уставом благочиния» 1782 г. предполагала создание государственного учреждения, основанного на исполнении подданными Российского государства полицейской повинности. Военизированные формирования — армейские, казачьи — становились необходимой составной частью таких учреждений в виде создаваемых при городских управах благочиния специальных полицейских командах и источником пополнения их кадрового резерва. По функциям же «поддержания благочиния» полицию конца XVIII — начала XIX вв. трудно было отличить от управления вообще. Административно-полицейская служба казаков уже в XVIII в. включала предписания по содержанию караулов, ночных конных разъездов в городах, поиску воров и разбойников, конвоированию колодников, почты, присмотру за рекрутами, «ссылочными», и т. п. [4, с. 120]. Отбывая полицейскую повинность за пределами своих станиц, казаки в своей деятельности по охране общественного порядка и безопасности должны были руководствоваться «Уставом благочиния».
Полицейские команды в Оренбургской губернии формировались из казаков ежегодно специальным приказом военного губернатора. Вооруженные урядники и казаки, по согласованию с губернскими властями, могли назначаться в распоряжение городничего для несения полицейской службы в городах (из станиц в радиусе 100 верст от города) и содержаться за счет специальных сборов с горожан, которые должны были обеспечить ежемесячное денежное жалование, деньги на провиант и фураж для строевых казачьих лошадей. На казачью команду возлагалась и противопожарная охрана города. В сельский уезд казачьи команды командировались обычно только в случае обострения криминогенной ситуации для борьбы с разбойничьими шайками.
Задачи особой важности формулировались для казачьих полицейских команд из центра. К таким отнесено было, например, полицейское сопровождение золотодобычи, что стало актуальным с обнаружением в 1820-х гг. на Южном Урале богатых золотых россыпей, в том числе и на землях Оренбургского казачьего войска. Высочайше утвержденное 30 апреля 1838 г. Положение о частной золотопромышленности на казенных землях в Сибири предусматривало возможность командировать казачьи команды в распоряжение «отдельного заседателя» (должность отдельного заседателя по золотопромышленным делам земского суда учреждена этим же положением, в 1840-е гг. — горный исправник) [5]. Ежегодно с 1848 г. казаки Оренбургского войска командировались на золотые прииски в распоряжение горного ведомства — в помощь горному ревизору частных золотых промыслов. В декабре 1850 г. министр финансов граф Ф. П. Вронченко предложил Оренбургскому военному губернатору иметь на частных промыслах летом разъездную казачью команду в 125 человек. Увеличение планировалось в 1851–1852 гг. по просьбам и золотопромышленников, и Главного начальника горных заводов Уральского хребта для казенных Миасских золотых промыслов с постоянным нахождением разъездной казачьей команды в течение года в усиленном составе из 24 казаков и 2 урядников — в сезон с 15 апреля по 15 ноября. По приблизительным оценкам, потери от «хищений и утайки» только в одном горном округе в этом году составляли не менее 5 пудов из 30 добытых пудов золота [6, с. 76–77]. С золотопромышленников на содержание полиции и казачьей стражи собирали дополнительный налог, введенный в 1838 г. после массовых волнений рабочих на сибирских приисках — «пофунтовый сбор» (4–8 руб. с каждого добытого фунта золота в зависимости от объема добычи). По отчетам за 1853 г. численность казачьей команды на частных золотых промыслах составила 65 человек, на казенных — 26 [7, л. 112–115, 162–164]. Издание Горного устава 1857 г. узаконило существовавшую практику участия казаков («разъездных команд») в несении полицейской службы на частных и казенных промыслах. Однако назначение команд не ограничивалось только приисками, о чем свидетельствует таблица 1.
Для подавления случавшихся на приисках масштабных волнений работников (на Троицких промыслах компании тайной советницы Жуковской в 1849 г., Кочкар-ских приисках в 1856 г., Миасских промыслах в 1881 г.) имеющихся сил «полицейских казаков» часто не хватало, на прииски дополнительно направлялись воинские команды, тоже состоявшие из казаков [6, с. 118–119, 121].
С 1822 г., как следует из сохранившихся документов, Оренбургское казачье войско направляло из состава своих полков отдельные команды для «усиления полицейских средств» и в другие внутренние губернии империи. Хотя встречаются упоминания о том, что и ранее, находясь в военных походах, казакам, «вне круга военных действий», приходилось выполнять «полицейские поручения» [2, с. 106–107]. В 1807 г. возникла необходимость сформировать команду из 400 казаков в Казань «для несения годичной внутренней службы» на замену казаков Донского казачьего войска [9, с. 167].
В 1823 г. на нижегородской ярмарке полицейские обязанности выполняли 300 казаков, в Казанской губернии — 100, в Вятской губернии — 50, в Пермской губернии — 90, в Москве — 500 казаков Сводного казачьего полка Отдельного оренбургского корпуса [10, с. 86]. В 1840-е гг. в Москве такие задачи выполняли 10-й, 12-й, 13-й сводные казачьи полки, в Нижнем Новгороде — до апреля 1840 г. Отдельный трехсотенный отряд, а затем 14-й и 15-й Оренбургские казачьи полки. В ноябре 1850 г. на нижегородскую ярмарку был командирован сводный четырехсотенный отряд (не имевший принятой в войске с 1842 г. порядковой нумерации полков) [11, с. 8–9], приказом военного министра в феврале 1868 г. оренбургских казаков на полицейской службе здесь заменил эскадрон лейб-гвардии Сводного казачьего полка Войска Донского,. С 1845 г. в течение 20 лет подряд казачья команда из Челябинска отправлялась на Ирбитскую ярмарку. Одна пешая сотня направлялась специально для охраны объектов на Казанской железной дороге. В Пермской губернии двухсотенный отряд был занят «поимкою бродяг, бегающих из Сибири», сотенный отряд конвоировал арестантов [3, с. 139, 142].
Исследователи отмечают архивные свидетельства об эффективности полицейской деятельности оренбургских казаков в Москве: в 1831–1836 гг. казачьи разъезды задержали в трех уездах губернии более 300 числившихся в розыске преступников, около 600 беглых крестьян, ликвидировали 10 групп грабителей почтовых карет и путников [3, с. 141].
Командирование казачьих конных команд в Москву продолжалась до 1865 г., в Пермскую и Казанскую губернии — до 1868–1869 гг., когда их начали постепенно заменять вольнонаемной конной полицейской стражей. Именно в этот период правительство изменяет состав Оренбургского казачьего войска (1867 г.) и правовой статус населения войсковых территорий (1869 г.).
Среди региональных направлений командирования оренбургских казаков достаточно подробно исследованы особенности прохождения ими службы на Нижегородской и Ирбитской ярмарках, в Москве и Пермской губернии [2], а также в Казанской губернии в 1830–1860-е гг. [12], куда направлялись и команды Уральского казачьего войска. Отмечается, что в Казанской губернии на казаков возлагался широкий круг обязанностей по охране общественного порядка (надзор за торговлей и ремеслом, поимка беглых крепостных, за что полагалось денежное вознаграждение, дезертиров и «ссылочными», служба в составе пожарных команд, выполнение поручений в качестве рассыльных, помощь администрации в сборе налогов и подавлении волнений крестьян, мастеровых и рабочих), а само их присутствие «оказывало сильное психологическое воздействие на местное население», предотвращая, в частности, «отпадение от христианства в магометанство» [12, с. 218, 227]. В последний год пребывания в Казани — 1869 — по штату положено
Таблица 1 — Назначение казаков Оренбургского казачьего войска на службу в 1847–1853 гг. [8, с. 62–64, 130–131, 187–188, 287–290, 397–400, 522–525]
|
1847 г. |
1848 г. |
1849 г. 1850 г. 1851 г. |
1852 г. |
1853 г. |
|
На кордонную службу / в том числе зимнюю, чел.: |
||||
|
— |
3380 |
3249 3145/887 3045/859 |
3128 |
3173 |
|
На время ярмарки в Нижнии Новгород на 6 месяцев, чел.: |
||||
|
868 |
890 |
892 589 577 |
577 |
577 |
|
На время ярмарки в Ирбит на летние месяцы, чел.: |
||||
|
16 |
16 |
16 — 16 |
— |
— |
|
В Илекское соляное правление на 1 год, чел.: |
||||
|
— |
— |
— — 11 |
11 |
11 |
|
К соляным озерам Челябинского уезда на 4 месяца, чел.: |
||||
|
65 |
66 |
66 72 72 |
71 |
71 |
|
В Троицкую таможню (меновои двор) на 1 год, чел.: |
||||
|
42 |
— |
——9 |
9 |
9 |
|
В Звериноголовскую таможенную заставу на 1 год, чел.: |
||||
|
— |
— |
——4 |
4 |
4 |
|
К горному исправнику 1-го округа в Лесную Санарку на 1 год, чел.: |
||||
|
— |
— |
——— |
15 |
— |
|
В Оренбургскую таможенную заставу / в том числе на зимние месяцы, чел.: |
||||
|
— |
— |
— — 7/ 5 |
7/5 |
7/5 |
|
К горному исправнику 2-го округа на прииск Петропавловскии на 1 год, чел.: |
||||
|
— |
— |
2—— |
25 |
— |
|
К горному исправнику 3-го округа в станицу Варшавскую на 1 год, чел.: |
||||
|
— |
— |
——— |
18 |
— |
|
К горному ревизору в Троицк, чел.: |
||||
|
10 на лето |
10 |
10 — 10 на 2 года |
4 на 1 год |
— |
|
К горному ревизору в станицу Усть-Уискую на 1 год, чел.: |
||||
|
— |
— |
——— |
3 |
— |
|
На Оренбургские золотые промыслы в распоряжение горного ведомства на 1 год, чел.: |
||||
|
— |
— |
——— |
— |
65 |
|
К исправникам частных золотых промыслов Петропавловских и Оренбургского края: |
||||
|
— |
2 на лето |
2 4 на 2 года — |
4 на 2 года |
— |
|
На казенные Миасские золотые прииски от 7 месяцев до 1 года, чел.: |
||||
|
— |
13 |
13 13 26 |
26 |
26 |
было командировать 181 чел. из Оренбурга (фактически — 164 во главе с войсковым старшиной). Уральское казачье войско должно было направить в Казанскую губернию, согласно штату, 4 обер-офицеров, 11 урядников и 166 конных казаков [12, с. 215]. Содержание казачьих команд, включая организацию питания, постоев, лечения, осуществлялось за счет как местной, так и войсковой казны. Первоначально служба вне пределов войсковой территории могла продолжаться несколько лет подряд, без четко определенных сроков, что приводило к упадку казачьего хозяйства и материального положения семей. Но в 1850–1860-е гг. команды менялись уже достаточно регулярно, например, в Казанской губернии, ежегодно.
В жизни казачьих общин функции земской полиции возлагались на представителей войсковой администрации — после оформления военно-административной структуры Оренбургского казачьего войска. Положением об Оренбургском казачьем войске от 12 декабря 1840 г. [13] был определен статус войска как самостоятельной административно-территориальной единицы с передачей управления Наказному атаману, а Войсковому правлению предоставлены права губернского правления. Командиры полковых округов получали функции и воинских начальников, и уездных судей, и полицейских исправников. Полковым правлениям подчинялись станичные во главе со станичными начальниками, непосредственно осуществлявших полицейский надзор с правом производства дознания и имевших в своем распоряжении команды из переводившихся на внутреннюю службу казаков — для охраны общественных зданий, цейхгаузов с оружием, общественных табунов, хлебозапасных магазинов, войсковых лесов, сопровождения почты и т. п. К выполнению полицейских функций могли привлекаться отставные казаки и молодые казаки с 17 лет [4, с. 126].
Правительственные реформы 1860-х гг. сопровождались пересмотром роли и положения казачьих войск в государстве, привели к реорганизации административного и общественного управления, отбывания воинской повинности, земельного обеспечения, открытию войсковой территории для переселенцев и разрешение выхода из казачьего сословия. С 1867 г. военный состав Оренбургского казачьего войска сокращался до 27 тыс. нижних чинов, но в случае особой необходимости мог изменяться по усмотрению военного министерства. Казаки, отслужив определенный срок и уволившись на льготу, получали возможность больше времени уделять хозяйственной деятельности, категория «войсковых граждан» взамен службы обязывались вносить в войсковые и станичные капиталы особые взносы до тех пор, пока их сверстники находились в служилом разряде. Казачьи территории были слиты с традиционными административно-территориальными образованиями, по гражданской части казачье население было подчинено общегубернским структурам управления. В 1870 г. Положение об общественном управлении в казачьих войсках расширило права казачьей общины в решении вопросов местной жизни: станичный сход казаков-домохозяев избирал станичного атамана, станичное правление и станичный суд, в компетенцию схода передавались практически все вопросы жизнедеятельности казачьих общин.
В конце XIX столетия усилилось стремление правительства и войсковой элиты сохранить замкнутый характер казачьего сословия, ограничить расслоение среди казачества и сохранить общину, оградить казаков от влияния либеральных и революционных идей. Положение об управлении военными отделами Оренбургского войска 1884 г. и новое Положение об общественно управлении станиц казачьих войск, утвержденное в 1891 г., позволяло войсковой и губернской администрации сохранить за собой контроль за деятельностью станичных сборов, сохранив лишь видимость самоуправления. В инструкции станичным и поселковым обществам подчеркивалось, что атаман в пределах своего станичного юрта осуществляет от имени правительства «ближайший надзор» за сохранением порядка, спокойствия и благочиния и, как выборное лицо, заботится о пользе и нуждах станичного общества. Атаманы отвечали за обеспечение порядка во время богослужения в храмах, недопущению беспорядков при публичных собраниях, недопущению и преследованию убийств, поединков, ссор, драк, обманов, подлогов, конокрадства. Атаману предписывалось задерживать и лишать свободы для производства дознания, до передачи переписки в распоряжение полиции или судебному следователю, лиц, подозреваемых или обвиняемых в государственных преступлениях, «в злонамеренном возмущении народа», в открытом личном или «скопом неповиновении властям», явном публичном порицании православной веры, в буйстве, грабеже, краже и подделке государственных кредитных билетов и монеты, в организации «шайки для кражи и мошенничества», в бродяжничестве, а также в дезертирстве [14]. Впрочем, перечень совершаемых лицами войскового и невойскового сословий правонарушений, судя, например, по отчету войсковой администрации за 1886 г., имел в основном характер преступлений имущественных: насильственные завладения имуществом — 28 (из них представителями войскового сословия — 13), присвоение и утайка чужой собственности — 32 (8), повреждение чужой собственности — 26 (14), зажигательство — 21 (17), грабеж — 75 (44), воровство, кража — 484 (279), конокрадство — 203 (80), мошенничество — 53 (32). Всего на территории войска было совершенно 922 преступления против собственности из общего количества преступлений 1396 (487 — казаками, 435 — «иногородними») [15, л. 33 об.]. Исполнение поручений «по делам полицейского ведомства» внутри станицы атаманы возлагали, как правило, на сотских и десятских, выбираемых поселковыми сборами. При этом сами выбранные сотские и десятские, воспринимали «полицейские дела» крайне неохотно и нежелательно. «Полицейские дела» отвлекали казаков от занятий привычными хозяйскими делами и не компенсировались материально на затраченное время.
Заключение и вывод
Казачьи войска и казачьи команды Урала на протяжении второй половины XVIII — первой половины XIX вв. были сосредоточены в первую очередь на выполнении своих прямых военных функций. Но, кроме военной, они играли важную роль в общественной, политической и экономической жизни Уральского края. Кроме того, казаки оставили большой след и в культурной жизни Уральского региона, напрямую влияя на формирование общей уральской культуры. Оренбургское казачье войско, сформированное в ответ на потребности обеспечения безопасности юго-восточных границ империи, уральского горнозаводского района, во второй половине в XIX в. постепенно утрачивает свое военное значение, обременительное для государства. Содержание казачьего войска все более заменяется на самообеспечение, на поиски внутренних ресурсов удовлетворения необходимых потребностей. Однако царское правительство по прежнему было заинтересовано в сохранении казачества прежде всего как особого служилого сословия, традиционно преданного государству и способного к определенному непрофильному «перепрофилированию» в его интересах, когда возникали особые обстоятельства. Новая структура войскового управления не должна была полностью сломать обособленности, замкнутости и самодостаточности казачьей общины и растворять ее в общей массе российского населения. Полнота власти в станицах и на хуторах по-прежнему, сохранялась в руках атаманов, за деятельностью которых была установлена особая система контроля со стороны государственных структур. Несмотря на общую тенденцию роста профессионализации и специализации российской полиции, практика привлечения казаков и казачьих команд к охране общественного порядка и выполнение правоохранительных функций была продолжена. Эта практика потеряет свою актуальность только в бурных событиях 1917 г., но оставит после себя долгий след в российской истории.