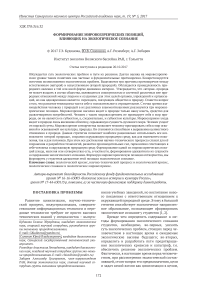Формирование мировоззренческих позиций, влияющих на экологическое сознание
Автор: Кудинова Галина Эдуардовна, Симонов Юрий Владимирович, Розенберг Анастасия Геннадьевна, Зибарев Александр Григорьевич
Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc
Рубрика: Общая биология
Статья в выпуске: 5-1 т.19, 2017 года.
Бесплатный доступ
Обсуждается суть экологических проблем и пути их решения. Дается оценка на мировоззренческом уровне таким понятиям как частные и фундаментальные противоречия. Конкретизируется источник возникновения экологических проблем. Выделяются три причины противоречия между естественным (натурой) и искусственным (второй природой). Обсуждается принадлежность природного явления к той или иной форме движения материи. Утверждается, что «вторая» природа не может входить в состав общества, являющегося совокупностью и системой различных вне природных отношений между людьми и созданных для этих целей органов, учреждений и организаций, но она одновременно является переходом, связующим общество и природу. Ставится вопрос о том, что развитие техницизма таит в себе и положительное и отрицательное. С точки зрения взаимодействия человека с природой в их различных взаимоотношениях реализуются три мировоззренческие позиции. Мировоззрение насилия видит в природе только нашу власть, средство для удовлетворения потребностей. Человек с таким мировоззрением не проецирует себя в мир природы, он не является ее субъектом, а, следовательно, и субъектом культуры. Мировоззрение ухода видит в природе лишь внешнюю оболочку, скрывающую сущность духовного мира. Человек уходит от мирской суеты. Мировоззрение сотворчества позволяет человеку проецировать себя в мир освоенной и осваиваемой им культуры, природы. Он становится способным к выражению ценностного отношения к природе. Данная стратегия позволяет наиболее рационально использовать все возможности «второй природы», сохраняя окружающую природную среду, как для нынешнего поколения, так и для потомков. При этом все достижения научно-технического прогресса служат для её сохранения и разработки технологий, развития производительных сил, гармонично сочетающих в себе человека и окружающую природную среду. Формирование одной из мировоззренческих позиций (ухода, насилия или сотворчества) есть, в частности, формирование адекватного их сущности и содержанию экологического сознания. Формируя мировоззренческую позицию сотворчества, мы формируем у студентов адекватное этой позиции экологическое сознание.
Экологический кризис, научно-технический прогресс и экологический кризис, экологическое сознание и экологическое мировоззрение
Короткий адрес: https://sciup.org/148205328
IDR: 148205328 | УДК: 378:316.32
Текст научной статьи Формирование мировоззренческих позиций, влияющих на экологическое сознание
ников учебных заведений, но воспитание нового поколения с ответственным отношением к окружающей природной среде. Этому в большой степени способствует экологически-направлен-ное образование, позволяющее сформировать экологическое сознание у студентов [1, 2].
Прежде чем определить содержание и методы формирования экологического сознания студентов, необходимо, во-первых, уяснить суть экологических проблем, стоящих перед человечеством в настоящее время и ожидаемые экологические вызовы будущего; во-вторых, определить и разработать пути предотвращения экологических кризисов и катастроф, т.е. обеспечить решение экологических проблем. Фактически, в настоящее время перед человечеством, при рассмотрении экологической составляющей, стоит вопрос его предназначения, цели и задач самой жизни как цивилизации в целом, так и отдельного человека в частности. На наш взгляд, решение этих вопросов может быть найдено на мировоззренческом уровне [4].
Цели статьи. Формирование у студентов мировоззренческой позиции сотворчества и адекватного этой позиции экологического сознания.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ
Перед каждым человеком и перед обществом в целом зачастую стоят главные стратегические вопросы: цели и предназначения бытия. Ответ на эти вопросы порождает противоречие. Обратимся к В.Н. Сагатовскому, который пишет, что противоречие - это «не просто расхождение в оценках, но одна из объективных характеристик самого бытия, такое отношение между явлениями любой природы или сторонами явления, когда они одновременно и исключают друг друга (имеют противоположные тенденции) и с необходимостью предполагают друг друга, т.е. в данной системе друг без друга не существуют» [3].
При рассмотрении данной проблемы можно выделить частные, преходящие противоречия, т.е. противоречия, порождающие локальные кризисы, не приводящие к системным сбоям и не влекущие за собой катастрофических последствий, и фундаментальные противоречия, которые все более и более обостряются, принимая в наши дни форму глобальных проблем и ставящих под угрозу само существование человечества. Анализ научной литературы по проблеме фундаментальных противоречий достаточно полно дан В.Н. Сагатовским [3]. Обращаясь к проблеме: как и во имя чего преодолевать экологические кризисы, отметим, что подход В.Н. Сагатовского к определению и раскрытию фундаментальных противоречий конкретизирует источник возникновения экологических проблем.
Противоречие между естественным и искусственным, с точки зрения В.Н. Сагатовского, является исходным противоречием человеческой жизни. Человек вышел из природы, из естественного мира, и вместе с тем, частично оставшись в этом мире, он перешел в искусственный, созданный им же мир. Этот переход потребовал, чтобы человек поместил между собой и природой технику, создал проекты преобразования природы и выработал нормы поведения в новом, созданном им мире. Так появилась «вторая природа» (ВП) – противоречивый мир, «который им создан, и который «начинает жить по собственным внутренним законам, и предъявляет человеку требования порой более суровые, чем естественная природа» [3].
В контексте развертывания исходного противоречия В.Н. Сагатовский выделяет три причины:
-
1. Противоречие общества и природы.
-
2. Противоречие сознания.
-
3. Противоречие общественных начал.
Каждая из этих причин может быть конкретизирована. Так, в первой причине отчетливо выявляется экологическое противоречие между самосохранением окружающей среды, необходимостью ее сохранения как условие существования человека и разрушением среды преобразовательной деятельностью человека.
Как отмечает В.П.Тугаринов [6], это – не антагонизм: в отношении антагонизма с природой человек не сможет прожить и дня. Это и не отношения господства и подчинения в прямом смысле этих понятий. Природу в прямом смысле слова подчинить нельзя: ее силы несравнимы с силами человечества. Вообще любые антропоморфные определения не могут вполне адекватно выражать отношения между людьми и природой. Ведь это отношения двух сил, качественно разнородных, хотя и связанных между собой генетически и каждодневно и существующих на базе более глубокой однородности, ибо природа и общество – различные формы движения одной и той же материи. Это отношения между безграничной, но стихийной, «слепой» силой и силой ограниченной, но зато «зрячей», разумной. Такие отношения исключают «борьбу» в собственном смысле слова, как стремление «померяться главами», повалить противника. Причем, в этой «борьбе» человечество победить не может, если даже оно взорвет Землю, т.е. совершит самоубийство, большого ущерба Вселенной нанесено не будет [6].
В процессе освоения человеком природы указанные формы зависимости человека от природы в той или иной степени преодолеваются или ослабляются. Дополнительно к созданным природой вокруг Земли оболочкам или сферам, общество создает вокруг себя еще одну оболочку, именуемой «второй природой», «ноосферой», техносферой, экотехносферой и т.д., иными словами, природу, обработанную, видоизмененную и деформированную человеком. Защищая себя от неблагоприятных условий природы, человечество создавло эту полуис-кусственную среду, этим отдаляло себя от последней. Появление искусственной среды, ВП, изменяло, с одной стороны, ее собственный характер, в отличие от «дикой», не подвергавшейся воздействию человека природы, и, с другой стороны, изменяло самого человека.
В.П. Тугаринов отмечает, что часть природы, подпавшая под воздействие общественного человека, должна была подпасть под воздействие человеческих интересов и целей, а значит, в какой-то мере и под действие законов общественного развития. Поэтому изменения во ВП имеют характер двойной, хотя и неравнозначной детерминации: естественной и социальной [6].
Осуществляемые человеком изменения в природе определяются его потребностями и целями, а, следовательно, и законами общественного развития. Однако эти потребности и цели чужды как для живой, «дикой» природы, так и для ВП. Следовательно, ВП надо относить именно к природе, а не к обществу. Но у ВП имеются некоторые собственные, специфические закономерности функционирования и развития вследствие указанной двойственности. Выявление этих закономерностей становится все более важным, так как отношения человека к природе уже в значительной и всевозрастающей степени опосредуются его отношениями с окультуренной им части природы. В настоящее время почти вся земная природа стала полем деятельности человека, превращаясь в ВП, почти не оставляя уголков живой, не тронутой антропогенной нагрузкой, природы.
Воздействие интересов и целей человека на ту часть природы, которую он культивирует, изменяет и можно сказать деформирует, не может не изменить, ни ослабить общих законов природы. ВП изменяется в основном по тем же законам, которые действуют во всей природе. Однако не следует забывать, что ВП служит человеку. Поэтому ряд процессов и «механизмов», действующих в природе в целом, должен был видоизмениться. В живой природе, нетронутой человеком, механизмы саморегуляции обеспечивают ее равновесие и относительное постоянство. Девственная природа «работает» по принципу замкнутых циклов, тогда как ВП накапливает продукты деятельности. Поэтому ВП изменяется несравненно быстрее, чем вся остальная природа. Каждое новое техническое изобретение вносит свою долю изменений в природную сферу. Этот динамизм обусловлен именно тем, что ВП служит человеку, тогда как остальная природа «работает на себя».
Как уже отмечалось выше, ВП, являясь пограничной сферой между природой и обществом, остается частью природы, однако при этом в нее внедряется общественный человек. Она принадлежит к внеобщественным формам движения материи, каковые для нее являются основными, а общественная форма движения - «побочной». В объективной действительности нет резких разграничительных линий между формами движения материи, между природой и обществом, они посредством пограничных сфер переходят друг в друга [6]. Пограничная линия между природой и обществом - не стена, а переход одного в другое. ВП, т.е. окультуренная человеком природа, не может входить в состав общества, являющегося совокупностью и системой различных внеприродных отношений между людьми и созданных для этих целей органов, учреждений и организаций. Но можно считать, что ВП является переходом, связующим общество и природу.
Кроме ВП, по мнению Тугаринова В.П., есть еще одна сфера непосредственного контакта между общественным человеком и природой, а именно - труд, производство [6]. Труд должен быть поставлен на первый план, так как ВП - результат общественного труда и производства. Производство - лежащее в основе жизни человечества общественное явление. Единство производительных сил и производственных отношений определяют способ производства. Прямая связь между человеком и природой осуществляется в процессе функционирования производительных сил. В производительные силы входят в качестве элементов:
-
. предметы труда, т.е. неокультуренные, «дикие» или уже частично окультуренные предметы природы;
-
. орудия труда, т.е. уже ранее окультуренные для целей производства предметы и вещества природы;
-
. человек, как сила природы и как разумная сила.
Таким образом, процесс производства, с точки зрения характера сил, его составляющих, в значительной мере есть природный процесс. Немаловажный фактор и составляющая часть процесса производства - техника, которая является мощным фактором развития общества и, несомненно, вызывает изменения как живой природы, так и ВП, а так же самого человека. Но какова глубина и характер изменений? Они должны соответствовать месту и роли техники в общественном развитии. Техника не может заменить собою ни всех элементов производительных сил, ни производственных отношений, ни всего способа производства как основы общественного развития. Никакая научная, техническая и даже социальная революция не может изменить природы человека, т.е. превратить его из биосоциального существа во что-то иное, или изменить его социальную сущность, т.е. вырвать человека из общества. Распространенный взгляд на изменение человеческой природы или его сущности под влиянием Научно-технической революции (НТР) представляет собой выражение технологического фетишизма. Всякое изменение человека требует изменения производственных отношений, а не одной только техники [6]. Однако следует учитывать, что техника занимает огромное место в жизни современного человека, а ускорение темпов жизни и влияние НТР вызывает изменения психологического настроя.
В развитии техницизма есть положительное и отрицательное влияние на человечество. Положительное влияние доказывать нет необходимости, НТР проникла во все сферы общественной жизни и общественного производства. Уже сложно себе представить развитие цивилизации без новейших достижений в науке и техники. Но безоглядное увлечение техникой зачастую ве- дет к ослаблению интересов человека к общественно-политической жизни, к гуманитарным вопросам, к духовной культуре, а именно эти области культуры формируют интеллигентного, развитого человека, человека творческого, думающего, знающего и умеющего. Фактически, НТР одинаково может служить и прогрессу, и регрессу. Следствия развития техники столь же диалектичны, как и все общественные явления. Но утверждать, что человек под влиянием техники превращается из «Гомо сапиенс» в «Гомо техникус», что он теряет свою человеческую сущность, нет оснований.
Как уже рассматривалось выше, взаимодействие человека и природы регулируется человеческой деятельностью. Вмешиваясь в природу, человек берет на себя обязательства по компенсации возмущающих природу результатов своей деятельности. При этом можно сказать, что человек занимает центральное положение во взаимодействии с природой. В контексте этого взаимодействия отчетливо проявляется противоречие между опытом преобразовательной деятельности человека, противопоставляемой природе, и природой, предстающей в качестве критерия целедостигающей деятельности знания, которыми человек овладел в процессе познавательной, преобразовательной, ценностно-ориентационной и иной деятельности. Результатом каждого из этих видов деятельности является адекватное им отношение: познавательное, праксеологическое и аксиологическое (ценностное). Так, наряду с критерием истины, общество выдвигает перед наукой, в том числе и экологией, критерий ценности. «Роль познавательного начала, – подчеркивает М.Б. Туровский, – выступавшего как знание, в каждую историческую эпоху определялась социально-культурным контекстом, и вовсе не моделируема современным смыслом понятия науки» [7]. Это положение ученого позволяет нам рассматривать экологию как феномен культуры. С этих позиций познавательная функция экологии - область знания, изучающая взаимоотношения организмов и их сообществ с окружающей средой (в том числе с другими организмами и сообществами), не может быть связана только с гносеологической ее функции. Личностное начало в экологическом знании – это проявление культурной сущности экологии. Деятельность человека в процессе создания ВП, не только предметная, включающая, следовательно, познание, но и социальная. Она с необходимостью содержит в себе отношения между людьми. В этом контексте «понятие истинности знания раздваивается на собственно объективное, независимое от человека содержание и содержание ценностное» [7].
Так проблема истины предстает в ее культурно-нравственном значении, благодаря чему человек становится способным не только осуществлять целеполагание, но и «определять критерии целедостигающей деятельности. Культурный контекст знания, с одной стороны, выявляет относительность истины (отношение между…), с другой – отношение к этому знанию (ценность – это отношение к ... ) [8].
«В ценностном отношении, полюсами которого является ценность и оценка [9], фиксируется оценка людьми выраженности в мире созданной ими культуры». Ценностное отношение всегда предполагает осмысление оцениваемого, критерием которого являются ценности культуры. Из такого понимания ценностного отношения следует, что в нем «получает отражение центрация индивида в деятельности, а вместе с ней и рефлексия на себя» [7].
Таким образом, чтобы разрешить противоречие между конечным и бесконечным, человек делает объектом рефлексии себя как субъекта культуры, как субъекта деятельности. Познание природы уже не развертывается исключительно в рамках отношения «субъект-объект», оно осуществляется и в рамках системы «субъект-объект», поскольку человек как субъект определяет цель и границы взаимодействия с природой, полагает себя в природе, а следовательно, выражает ценностное отношение к достигаемым в процессе взаимодействия с природой результатам преобразовательной деятельности [9].
В этом отношении знание о природе есть опосредованное знание о себе. С точки зрения взаимодействия человека с природой в их различных взаимоотношениях реализуются три мировоззренческие позиции:
-
1. все для человека (власть над миром, природой).
-
2. все для мира (уход человека от себя, слияние с миром, природой).
-
3. все для гармонизации отношений (сотворчество, укорененность человека в мире и ответственность перед ним, перед природой).
Эти три позиции В.Н. Сагатовский называет «мировоззрениями насилия, ухода и сотворчества» соответственно [3]. Мировоззрение насилия видит в природе только нашу власть, средство для удовлетворения потребностей [10, 3]. С нашей точки зрения, человек с таким мировоззрением не проецирует себя в мир природы, он не является ее субъектом, а, следовательно, и субъектом экологической культуры. Как следствие - полное отсутствие рефлексии на природу, на культуру. У человека отсутствует знание о себе. Он не совмещает в себе позиции субъекта освоения природы и соучастника ее освоения. В этом случае на наш взгляд преобладает философия «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», преобразования природной среды по свои нужды и активного, бездумного внедрения достижений НТР во все сферы жизнедеятельности.
Мировоззрение ухода видит в природе лишь внешнюю оболочку, скрывающую сущность духовного мира [3]. Человек с таким мировоззрением проецирует себя в природу через растворение в ней, уходит от мирской суеты. Его потребности сведены к минимуму. Природу он трактует как принадлежащую лишь самой себе, а он часть этой природы. Знание о себе – это калька знания о природе. В его рефлексии отсутствует понятие глобальности распространенности природы, так как Человек не является центром взаимодействия с природой и не видит «горизонта» своего взаимодействия с природой. ВП при реализации данных мировоззренческих трендов может выступать в качестве дополнения при взаимодействии человека и природы.
Словами С. Булгакова В.Н. Сагатовский выражает суть мировоззрения сотворчества: «Райское хозяйство как бескорыстный любовный труд человека над природой для ее познания и усовершенствования, раскрытия ее софийно-сти» [3]. Мировоззрение сотворчества, с нашей точки зрения, позволяет человеку проецировать себя в мир освоенной и осваиваемой им культуры, природы. Становясь субъектом культуры, он рефлексирует, а, следовательно, осознает то, что делалось другими стихийно или без осмысления предполагаемых результатов преобразовательной деятельности. Как результат, он становится способным к выражению ценностного отношения к природе: «критерий включенности в это отношение здесь объективно не предположен (как в познании, где истина определяется через зависимость знания от объекта), но полагается наделением объекта статусом освоенности (принадлежности к миру культуры). Отсюда релевантность ценностных определений» [7]. Данная стратегия позволяет наиболее рационально использовать все возможности ВП, сохраняя окружающую природную среду как для нынешнего поколения, так и для потомков. При этом все достижения НТР не направлены «против» природы, а служат для её сохранения и разработки технологий, развития производительных сил, гармонично сочетающих в себе человека и окружающую природную среду. Такая релевантность ценностных суждений позволяет делать выбор способов и средств решения экологических проблем, открывает широкое поле взаимодействия человека с природой по критерию ценности, т.е. обозначает первостепенное значения природы для благоденствия и процветания цивилизации в целом и для жизни каждого отдельного человека.
Мировоззренческие позиции, рассмотренные выше, отражают адекватное им состояние экологического сознания человека. Данное утверждение основывается на том, что наука пришла к осознанию того, что мировоззрение это не есть сугубо теоретическая система идей, принципов и представлений. Мировоззрение – это состояние сознания, которое отражает отношение человека к миру и к природе. «Содержательное ядро мировоззрения, как подчеркивает В.Н. Сагатовский, дает ответ на вопрос, «во имя чего», ответ, который организует всю систему отношений. А формулой жизни являются ценности, или жизненный смысл» [3].
Ценности, как осознанные смыслы жизни, являются образующими сознания человека. Они являются критерием выбора средств и способов решения экологических проблем. Они, как мотивы деятельности, ориентируют человека в мире природы, регулируют его взаимодействие с природой. В ценностях, в структуру которых входит знание, и содержится ответ на вопрос о смысле человеческой деятельности в отношении природы и в отношении к природе. Ценности придают ценностную ориентацию познавательной и преобразовательной деятельности человека в освоении природы [6].
ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Следовательно, формирование одной из мировоззренческих позиций (ухода, насилия или сотворчества) есть, в частности, формирование адекватного их сущности и содержанию экологического сознания. Человек все более вторгается в живую, «дикую» природу, нанося ей урон и провоцируя частные и фундаментальные противоречия. Экологический кризисы стали, можно сказать, настолько повседневной «рутиной» развития цивилизации. Экологический катастрофы, приводящие к необратимым изменениям как в живой природе, так и в ВП, спровоцированные необдуманным внедрением достижений НТР и процессами жизнедеятельности человечества, что становится чрезвычайно важным экологически грамотное воспитание нового поколения. Формируя мировоззренческую позицию сотворчества, мы формируем у студентов адекватное этой позиции экологическое сознание, позволяющее в будущем обеспечить сохранение живой природы её и гармоничное сосуществование с ВП, созданной человеком.
Список литературы Формирование мировоззренческих позиций, влияющих на экологическое сознание
- О цикле работ по экологическому образованию в интересах устойчивого развития для естественнонаучных и экономических специальностей ВУЗов/Г.С. Розенберг, Г.Р. Хасаев, Д.Б. Гелашвили, С.В. Саксонов, Г.В. Шляхтин//Экология и природопользование: прикладные аспекты материалы VII Международной научно-практической конференции. 2017. С. 258-262.
- Терешина М.В. Экологическое образование как социальная база для устойчивого развития/Экономика природопользования. 2006. № 4. С. 93-102.
- Сагатовский В.Н. Категориальный аспект деятельного подхода//Деятельность: Теории, методология, проблемы. М.: Политиздат, 1990. 306 с.
- Симонов Ю.В., Симонова Т.И. Формирование экологического сознания у студентов педагогического университета: Монография. Самара: Изд-во СГПУ, 2002. 232 с.
- Симонов Ю.В. Экологическое мировоззрение и экологическое сознание: учебное пособие для студентов небиологических специальностей высших учебных заведений. Самара: Изд-во «ИНСОМА-ПРЕСС», 2006. 172 с.
- Тугаринов В.П. Природа, цивилизация, человек. Изд-во Лен. университета. М. 1978. 128 с.
- Туровский М.Б. Философские основания культурологии. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997. 440 с.
- Каган М.С. Философская теория ценности. СПб. Петрополис, 1997. 204 с.
- Каган М.С. Философия культуры. СПб.: Петрополис, 1996. 416 с.
- Дерябо С.Д. Проблема субъективного отношения к природе в психологии экологического сознания//Экологическое образование: опыт России и Германии. М.: Горизонт, 1997. С. 120-135.