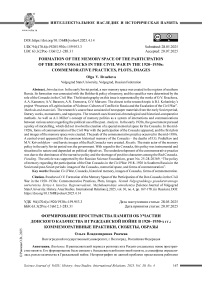Формирование пространства памяти об участии донского казачества в Гражданской войне в 1920–1930-х гг.: коммеморативные практики, сюжеты, образы
Автор: Рвачева О.В.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Интеллектуальное наследие и историческая память
Статья в выпуске: 4 т.30, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. В раннесоветский период в регионах юга России создавалось новое пространство памяти. Его формирование было связано с большевистской политикой памяти, а специфика определялась ролью казачества в Гражданской войне. Историография по данной проблеме представлена работами О.В. Рвачевой, А.А. Каменцева, А.В. Баранова, А.Н. Еремеевой, О.В. Матвеева. Методы и материалы. Источниковую базу исследования составили материалы газет раннесоветского периода, литературные произведения, памятники, топонимы. В качестве методологической основы применяется концепция А.И. Миллера о политике памяти как системе взаимодействий и коммуникаций различных акторов относительно политического использования прошлого. Анализ. В начале 1920-х гг. власть проводила политику расказачивания, которая не предполагала создания особого мемориального пространства в отношении казаков. В середине 1920-х гг. появляются формы коммеморации Гражданской войны с участием казачества, создаются первые сюжеты и образы пространства памяти. Пик коммеморативной практики пришелся на середину 1930-х гг.: произошло центральное событие для общей исторической памяти казачества – гибель Ф.Г. Подтелкова и М.В. Кривошлыкова и, соответственно, героизация образов красных казаков. Результаты. Главным актором политики памяти в раннесоветский период являлась власть. В отношении казачества эта политика носила инструментальный и ситуативный характер и зависела от политических задач. Неразвитость коммеморативной практики была обусловлена господством политики расказачивания и дефицитом положительных героев среди красных казаков.
Гражданская война в России, казачество, историческая память, образы казачества, формы коммеморации
Короткий адрес: https://sciup.org/149149146
IDR: 149149146 | УДК: 94(470.6)«1920/1930»:159.953.3 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2025.4.14
Текст научной статьи Формирование пространства памяти об участии донского казачества в Гражданской войне в 1920–1930-х гг.: коммеморативные практики, сюжеты, образы
DOI:
Цитирование. Рвачева О. В. Формирование пространства памяти об участии донского казачества в Гражданской войне в 1920–1930-х гг.: коммеморативные практики, сюжеты, образы // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2025. – Т. 30, № 4. – С. 167–178. – DOI:
Введение. Большевистская власть с самого начала активно формировала мемориальную политику, которая должна была способствовать конструированию новых социальных представлений о прошлом. Создавалось пространство памяти, являвшееся совокупностью образов, символов, праздничных дат, мемориальных объектов и пр., которое утверждало определенный образ исторической эпохи в обществе.
Региональная политика памяти должна была учитывать специфику событий и революции, и Гражданской войны на местах. Так, на юге России, на казачьих территориях, конструирование политики памяти обуславливалось следующими моментами: во-первых, казачество массово поддержало белых; во-вторых, проиграв в Гражданской войне, казаки чувствовали себя униженными и негативно относились к новой власти; в-третьих, проведение расказачивания как центральной политики большевиков; в-четвертых, периодическая реализация политики по вовлечению казаков в советское строительство, что предусматривало создание положительных образов казаков. Все это оказывало существенное влияние на коммеморацию событий Гражданской войны на казачьих терри- ториях, в частности на территории донского казачества.
Цель статьи: выяснить, как формировалось пространство исторической памяти об участии донских казаков в Гражданской войне в 1920–1930-х гг., какие существовали практики по конструированию памяти, вокруг каких сюжетов и образов они строились.
Историография. Что касается политики памяти об участии казачества в Гражданской войне, то пока по этой теме не сложилось комплекса исследований. Отдельные статьи затрагивают ситуацию формирования коллективной памяти и пространства памяти в отношении казаков в Гражданской войне в период возрождения казачества в конце XX – начале XXI века. Впервые к данной проблеме обратилась автор статьи при разработке модели памяти современного казачества [22]. Анализировал влияние исторической памяти о Гражданской войне на казачье возрождение также А.А. Каменцев [12]. Отражение событий Гражданской войны в народной памяти кубанского казачества исследовал О.В. Матвеев [14]. Проявления исторической памяти о Гражданской войне у казаков в период НЭПа анализировал А.В. Баранов [3]. О политике мемориализации, прово- дившейся белыми режимами на юге России в период Гражданской войны, писала А.Н. Еремеева [11]. Важный материал по политике мемориализации событий Гражданской войны на казачьих землях и отражению этих событий в памяти донских казаков содержится в работах С.Д. Багадсарян и А.П. Скорика [2; 26].
На изучение проблемы формирования пространства памяти о казачестве в Гражданской войне оказали влияние исследования, посвященные литературным образам произведений М.А. Шолохова. К таковым относятся труды литературоведа и шолоховеда К.И. Прий-мы, историка А.В. Венкова.
Методы и материалы. Источниковую базу исследования составили газеты 1920– 1930-х гг. – официальные органы печати краевых и областных партийно-советских органов власти, содержащие материал по формированию образов и сюжетов о донских казаках в Гражданской войне. Привлекались делопроизводственные материалы из фондов Центра документации новейшей истории Волгоградской области, Центра документации новейшей истории Ростовской области, Архива Управления ФСБ по Ростовской области. В качестве источников в статье представлены также художественная литература, памятники, топонимы.
Теоретическую основу исследования составили историко-хронологический и историко-сравнительный методы, а также концепция А.И. Миллера о политике памяти как системе взаимодействий и коммуникаций различных акторов относительно политического использования прошлого.
Анализ. Формирование пространства памяти о Гражданской войне в Северо-Кавказском крае и Царицынской губернии началось в 1920-х годах. Память о ней была очень свежа и болезненна, поэтому коммеморация тех событий вызывала противоречивый отклик у населения. Ярким примером служат братские могилы красноармейцев, красных партизан, погибших в боях с белогвардейцами. Они возникали стихийно и впоследствии в отношении них складывалась мемориальная практика в форме проведения траурных митингов, возложения цветов, сооружения памятников. Нередко у населения данные мемориальные практики вызывали сопротивление, так как в этих могилах были похоронены те, кто воевал против основной части населения станиц и хуторов. Ярким примером негативного отношения казаков к таким формам комме-морации, сохранявшейся и в 1925 г., являются высказывания казаков станицы Наурской Терского округа Северо-Кавказского края о нежелании приходить на могилы героев Гражданской войны, чтобы почтить их память, так как в них похоронены красноармейцы [2, с. 60].
С оговорками в качестве примера мемориальной практики в отношении казачества можно привести памятник Степану Разину скульптора С.Т. Коненкова, установленный в Москве на Красной площади в 1919 году. Его создание являлось одним из примеров реализации ленинского плана монументальной пропаганды. Однако Степан Разин здесь выступал скорее символом борьбы за свободу, а не казачества. Скульптор вспоминал, что за натурой для памятника он обратился в Совет казачьих депутатов, где председатель М.Я. Макаров в ответ на просьбу ответил, что то «память наша – донских казаков» [13].
Присутствие темы казачества в мемориальном пространстве было представлено официальным партийно-советским нарративом, носившим нередко негативный характер. По образному выражению делегата 2-го Донского округа I Донской областной конференции 1920 г., казачество хоть и неспособно было немедленно к активной борьбе, «...но казачество прыткий дикий конь и вожжи опускать не следует» [30, л. 27]. Делегаты конференции обсуждали последствия Гражданской войны для казачества, сохранявшуюся контрреволюционность казаков [30, л. 25, 31 и др.]. Эти же вопросы были в фокусе внимания делегатов II Донской областной партийной конференции, проходившей в том же 1920 г. [31, л. 18, 19, 58 и др.].
Реализация большевиками в первой половине 1920-х гг. жесткой политики расказачивания, направленной на уничтожение социокультурной специфики казаков, привела к тому, что казачество практически не фигурировало в социально-политическом дискурсе, не говоря уже о коммеморации своего участия в Гражданской войне. Данное событие являлось негативным маркером для казачества. В информационных материалах, собираемых к ап- рельскому Пленуму ЦК ВКП(б) 1925 г., который стал переломным в отношениях казачества и власти, было немало сведений об антибольшевистских настроениях и действиях казачества в период Гражданской войны. Акцент при этом делался на подробностях расправ казаков над красноармейцами и представителями власти, приводились цифры массовых казней, как в случае с описанием восстания казаков станицы Суворовской в 1918 г. и расстрела отряда из Царицына в 500 чел., направленного для подавления восстания [9, л. 10].
Ситуация стала меняться с 1925 г. после начала реализации политики «лицом к казачеству». Ее основные положения были изложены в резолюции Пленума ЦК РКП(б) «О казачестве» и представляли собой систему адаптационно-мобилизационных мер для казаков в советской системе [23, с. 74–75]. Обращалось внимание на то, что казачество сильно пострадало от Гражданской войны и это выступало важным условием оказания помощи казачьим районам. Таким образом, определился переход от отрицательной характеристики участия казачества в Гражданской войне к сочувственно-нейтральной.
Тема Гражданской войны появилась в региональной прессе. Материалы о казачестве носили противоречивый характер. С одной стороны, о нем почти не упоминалось, с другой – показывалась ожесточенность его сопротивления. Так, в газете «Борьба» в январе 1925 г. вышел очерк «Борьба за Царицын», в котором были отражены основные события обороны города от войск П.Н. Краснова, падение в результате наступления А.И. Деникина, освобождение от белых. Среди положительных героев – защитников Царицына упоминались К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный, Б.М. Думенко, среди отрицательных – атаман П.Н. Краснов, генералы К.К. Мамонтов, А.И. Деникин. В очерке было представлено противостояние красных и белых, а П.Н. Краснов и К.К. Мамонтов – это, прежде всего, представители белых, а не казаков [4]. Другой очерк, посвященный годовщине расправы белогвардейцев с рабочими в 1918 г. в Калаче-на-Дону, ярко рисует зверства восставших против советской власти: «...ежедневно две группы арестованных: одну в овраг, другую в балку за Дон отправляли на расстрел. Ежедневно до сотни человек арестованных получали от белогвардейских палачей от 10 до 75 розог» [16]. Казаки были представлены в образе «банды», вооруженной берданками, старыми шашками, штыками и вилами, которая двинулась на Калач. Важно, что казаков обманули офицеры, пользуясь их темнотой.
Во второй половине 1920-х гг. мемориальное пространство юга России наполнялось новыми формами коммеморации: активно сооружались обелиски над могилами защитников советской власти, высказывались идеи создания в сельсоветах памятных досок с именами героев войны [2, с. 57–58]. Значимой формой коммеморации стали литературные произведения, прежде всего авторства М.А. Шолохова. В 1925 г. вышел его сборник «Донские рассказы», главной темой которого была Гражданская война на Дону, и она здесь представлялась главным образом как трагедия казачества.
С 1926 по 1932 г. вышли первые три тома романа «Тихий Дон», четвертый был закончен в 1940 году. Еще одним произведением, в котором ярко представлена тема Гражданской войны и казаков, стал роман А.С. Серафимовича (Попова) «Железный поток», опубликованный в 1924 году. Серафимович и Шолохов были уроженцами Донской области, А.С. Серафимович принимал значительное участие в создании романа «Тихий Дон» [6].
Известный советский писатель оказал большое влияние на продвижение романа как в СССР, так и за рубежом. В 1928 г. вышла его статья в г. «Правда» под названием «Тихий Дон» [25], а в 1929 г. эту статью с высокой оценкой романа перепечатал немецкий журнал «Линскурве». Отрывок из него в 1930 г. опубликовала французская газета «Юманите». А писатель А. Марсель назвал «Тихий Дон» «Красной Илиадой» (цит. по: [20, с. 99]). В парижской прессе писали: «Шолохов – казак, крепчайше связанный с родной землей», обращали внимание на то, что «в романе живо и ярко встали потомки героических мятежников Степана Разина, Булавина, Пугачева, чьи подвиги до сих пор сохраняют свое значение в истории России...» [20, с. 102]. Отмечалось, что шолоховские «донские казаки впервые предстали перед изумленным европейским читателем в своей простой земной повседневности, буйной и пленительной» [20, с. 102]. Так как в рассматриваемый период Франция была средоточием русской белой, в том числе казачьей эмиграции, роман «Тихий Дон» становился своеобразным посланием к ней об изменениях в восприятии казачества советской властью. С 1929 по 1934 г. его опубликовали в большинстве европейских стран.
В 1930 г. вышла первая экранизация романа в немом варианте, а в 1933 г. уже была сделана озвученная версия. В немой версии фильм вошел в конкурсную программу I Венецианского международного кинофестиваля 1932 года. Сюжет не затрагивал Гражданскую войну, так как к этому времени были изданы только первая и вторая книги, однако объективно фильм «работал» на продвижение темы казачества как внутри советского общества, так и вовне его.
В 1935 г. на основе романа создана опера «Тихий Дон». Ее активно ставили в 1936 г. на большинстве оперных сцен Советского Союза, в том числе в Москве в Большом театре и в Ленинграде в Малом оперном театре. В 1936 г. во время кампании «за советское казачество» на просмотр оперы привозили делегации казаков с юга России.
Ранее, в 1932 г., вышло еще одно знаковое произведение М.А. Шолохова – «Поднятая целина». Центральная тема романа – коллективизация в донских казачьих районах. Здесь уже четко давалось противопоставление красных и белых казаков и их роли в советской системе. Этот роман также издавали за рубежом в 1930-е гг. [20, с. 38].
В конце 1920-х – начале 1930-х гг. фиксируется еще одна форма коммеморативной практики – топонимическая. Так, в Нижнечир-ском районе Нижневолжского края в 1930 г. появились коллективные хозяйства с названием «Красный Дон». В Кумылженском районе в 1929 г. были колхозы с названиями «Тихий Дон», «имени Шолохова». Из персоналий казачества при наименовании коллективного хозяйства популярностью пользовалось имя М.Ф. Блинова, активного участника Гражданской войны, одного из создателей красных казачьих кавалерийских частей. Из этих частей впоследствии сформировали дивизию, ко- торой после гибели М.Ф. Блинова было присвоено его имя.
Положительное продвижение темы Гражданской войны в пространстве памяти не исключало конфликтов исторической памяти со стороны разных групп казачьего населения. Припоминание обид, вызванных воспоминанием о насилии, расправах периода Гражданской войны, провоцировало социальное противостояние в казачьих районах [3, с. 121].
В 1936 г. на юге России развернулась масштабная кампания «за советское казачество», направленная на демонстрацию полной трансформации казаков в советских граждан. Формирование нового образа казачества повлекло за собой и расширение мемориального пространства, наполнение его новыми смыслами и сюжетами. Происходило интенсивное обращение к образу красного казачества в Гражданской войне. Так, в программной речи первого секретаря Сталинградского крайкома ВКП(б) И.М. Варейкиса сообщалось: «Мы знаем, какую славную роль сыграло казачество в борьбе против Деникина, Краснова, Колчака, против польских панов в первые годы молодой советской социалистической республики...» [24].
В данном случае говорить о «славной роли» казаков можно было только в отношении советско-польской войны 1919–1921 гг., во время которой белое казачество из разгромленных антибольшевистских армий примкнуло к Красной армии, воевавшей на польском фронте. С учетом того, что основой вооруженных сил генерала А.И. Деникина в его военно-политической структуре «Вооруженные силы Юга России» (ВСЮР) были казаки, генерал П.Н. Краснов являлся атаманом области Войска Донского, а значительную часть сил адмирала А.В. Колчака как Верховного главнокомандующего русской армией составляло оренбургское и уральское казачество, налицо конструирование исторической памяти о казачестве.
Создание образа красного казачества происходило также через сближение его с историческими фигурами, С.М. Буденным и К.Е. Ворошиловым, на страницах прессы. В одной из апрельских передовиц газеты «Сталинградская правда» говорилось об изменениях, которые произошли с казачеством после революции: «...Под командой нынешних маршалов Советского Союза, железного наркома обороны тов. Ворошилова, и героя красной конницы тов. Буденного революционные казаки били поляков под Киевом, деникинцев, красновцев и калединцев под Ростовом и наступали на горло контрреволюции в своих родных станицах» [29]. В итоге белые казаки – противники советской власти отступали в историческую тень, а на первый план выходили красные.
Самого С.М. Буденного активно позиционировали в этот период как создателя Первой конной армии, в которую входили и соединения красных казаков. Таким образом возникала связка нужных образов: С.М. Буденный, Первая конная, красное казачество. В рамках кампании «за советское казачество» усиленно пропагандировался образ казаков – защитников Отечества, и сближение их с Буденным было частью этой демонстрации. В центральной и краевой прессе регулярно печатались материалы о письмах казаков к С.М. Буденному, освещались встречи казачьих делегаций с маршалом Советского Союза по разным вопросам, публиковались совместные фото таких встреч. Так, например, в газете «Молот» был опубликован материал о приеме делегации донских казаков С.М. Буденным в Москве в марте 1936 года. Делегация приехала по приглашению Дирекции Большого театра на первый просмотр оперы «Тихий Дон». В статье отмечалось, что казаки и маршал встретились как старые друзья, в составе делегации были участники Гражданской войны, бойцы Первой конной армии, громившие белых [10].
Символическая связь имени другого советского маршала и героя Гражданской войны проявлялась в названии военно-патриотической организации молодых казаков – ворошиловские кавалеристы. Застрельщиками в ее создании выступили донские казаки. Популярность данной формы организации казачьей молодежи была очень велика. А в прессе при освещении процесса обучения молодых казаков-кавалеристов нередко подчеркивалась роль старшего поколения казаков – участников Гражданской войны.
Так, в статье о слете молодых казаков в станице Нижнечирской Сталинградского края в марте 1936 г. говорилось о присутствии рядом с молодежью красных казаков-партизан, участников походов Первой конной армии, которые приехали рассказать ей о своих походах и поделиться опытом [27]. Трансляция рассказов красных казаков в прессе являлась важным инструментом конструирования исторической памяти казачества и формирования их нового советского образа. В газете «Сталинградская правда» вышел подобный материал. Донской казак М.Г. Куркин отмечал: «Встречаются еще такие мнения, что раз казак, то обязательно в белых армиях участвовал. Неверно это! Я вот казак и горжусь этим именем. Я – красный казак» [1]. М.Г. Куркин был образцом для демонстрации правильного казачества – боец Первой конной армии Буденного, в советское время – колхозный инспектор по качеству. Он встречался с молодежью, рассказывал о борьбе с офицерами и атаманами на Дону. Главная мысль таких рассказов – казаки тоже воевали за советскую власть: «История гражданской войны знала не только казачью контрреволюцию. Революционные выступления среднего казачества за советскую власть – это одна из страниц недавнего прошлого. Об этих примерах геройской революционной борьбы в рядах буденовс-кой конной армии рассказывают старые казаки Нижнечирского района» [1].
Власть настойчиво проводила политику слияния исторических образов Первой конной и казачества. В одном из материалов, располагавшихся на первых полосах газеты «Молот» в 1936 г. и опубликованных в разгар кампании «за советское казачество», казаки и Первая конная выступали как единое целое: «В огне гражданской войны выковывалась легендарная Первая конная... Первая конная армия родилась у нас в бескрайних степях Сала и Дона. Здесь в Азово-Черноморье она накапливала свои силы, готовясь к великим боям... Тысячи трудовых казаков вступили добровольно в Первую конную...» [8]. Отметим, что до начала кампании «за советское казачество» такого явного объединения казаков и Первой конной армии в единый образ не было. Напротив, в материалах советских газет Первая конная армия бьется с белоказаками, разбивает части белых армий К.К. Мамонтова, А.Г. Шкуро, В.Л. Покровского [17].
Однако благодаря кампании «за советское казачество» образ красных казаков в буденовках прочно войдет в массовое сознание и станет частью советского мифа о казаках.
Гражданская война в середине 1930-х гг. стала важным маркером для конструирования нового исторического образа казачества: «Любители пресловутой казачьей экзотики воспевали когда-то Кузьму Крючкова – карточного героя-враля. Нет, не о крючковых живет слава в памяти и песнях казаков! Красные казаки – защитники советской власти – вот кто пользуется любовью в хате казака-колхозника» [1].
Однако исторический образ белоказаков также периодически транслировался в информационном поле. Так, в газете «Колхозные ребята» в 1936 г. публиковался материал о том, как Красная армия противостояла белоказакам, наступавшим на Царицын [36]. Аналогичные публикации появлялись и на страницах других изданий. В итоге складывалась ситуация конфликта памятей. Одно из проявлений такого конфликта даже попало на страницы газет. Автор статьи, опубликованной в газете «Сталинградская правда» в 1936 г., описывал ситуацию, когда делегаты съезда казачьей молодежи смотрели фильм «Чапаев»: «В момент, когда кто-то из чапаевцев голосом, полным ненависти, крикнул “Казаки!”, зал затих. Воцарилась тишина, настороженная и подавленная, словно каждому из зрителей сказали какую-то неприятность...» [32]. Далее автор показал, как молодые казаки рукоплещут Чапаеву, разбившему белых казаков.
Несмотря на активное продвижение исторического образа красных казаков в прессе, монументальной практики в этот период не сложилось. Из таковой отметим сооружение в г. Михайловке Сталинградского края 1936 г. монумента на братской могиле героям Гражданской войны, который с оборотной стороны имел посвящение герою Гражданской войны красному казаку М.Ф. Блинову.
В середине 1930-х гг. в мемориальном пространстве формируется «место памяти» – гибель руководителей революционного казачества Ф.Г. Подтелкова и М.В. Кривошлыко-ва. Оба они, обладая высоким политическим революционным статусом – Ф.Г. Подтелков являлся председателем Донского казачьего военно-революционного комитета (Донревко-ма), а М.В. Кривошлыков – его секретарем, были захвачены белоказаками во время агитационной поездки по Верхнему Дону и убиты.
Данное событие получило широкое освещение в 1918 г. в белой и красной прессе. Материалы с подробностями суда над под-телковцами и очерковые материалы публиковались в антибольшевистских изданиях: еженедельнике «Донская волна» [6, с. 659] и газете «Приазовский край» [26, с. 300, 306]. В красной прессе подробные материалы о гибели Подтелкова и его отряда выходили в газете «Трудовое казачество» [26, с. 300, 306]. В 1920-х комплекс воспоминаний о Ф.Г. Под-телкове формируется Донистпартом [7; 18].
Такое внимание было не случайным. Действия Ф.Г. Подтелкова, пленение, суд и казнь его и его отряда стали вехой начала Гражданской войны на Дону. Впервые казаки судили казаков и расправились с ними. Символическое значение вся эта ситуация обретала также в связи с тем, что все происходило накануне и во время христианского праздника Пасхи.
Подробно раскрыл сцену гибели отряда Ф.Г. Подтелкова М.А. Шолохов в «Тихом Доне». В отношении казаков, которых обвиняли в антисоветских действиях в 1920–1930-х гг., участие / неучастие в расправе над отрядом Ф.Г. Под-телкова стало важной характеристикой, влияющей на приговор. Так, в качестве отягчающего обстоятельства расправа над Ф.Г. Под-телковым и М.В. Кривошлыковым фигурировала в уголовном деле по обвинению Харлам-пия Ермакова (прототипа Григория Мелехова) в 1923 году [34]. Уголовное дело еще одного донского казака А.С. Сенина, который был обвинен в 1930 г. в создании казачьей контрреволюционной организации, также содержало сведения об участии последнего в «ликвидации экспедиции красногвардейского отряда Кри-вошлыкова и Подтелкова» [33]. Таким образом, по совокупности обстоятельств Ф.Г. Подтелков и М.В. Кривошлыков становились красными героями-мучениками.
В 1936 г. в газете «Молот» было опубликовано произведение под названием «Сказ о донских богатырях, трудовых казаках Под-телкове и Кривошлыкове» с изложением в особой форме всех событий борьбы и гибели отряда и его руководителей. Сказ был составлен в жанре героического эпоса – былины. Он начинался со слов: «Возьму в руки лютню, по серебристым струнам проведу я рукою своею и под звуки ее воскрешу перед вами былину» [5]. Сам Ф.Г. Подтелков представлен в образе русского богатыря, который борется за советскую власть как за высшую правду: «Развернул казак богатырскую грудь сверхгвардейскую, распрямил свои плечи круглые, во косую сажень не вмещенные...» [5]. В предисловии к «Сказу» говорилось, что он был написан еще в 1920 г. донским казаком Михаилом Мошкаревым и распространялся в виде печатной листовки среди трудовых казаков Дона. Сам М. Мошкарев в то время являлся председателем исполкома Совета в станице Вешенской. Редакция «Молота» разыскала автора этой былины, который в 1936 г. работал в библиотеке им. Ленина в Москве. По просьбе редакции М.П. Мошкарев прислал в газету воспоминания о Ф.Г. Подтелкове и М.В. Кривошлыкове [15]. В воспоминаниях был сделан акцент на исключительной популярности Ф.Г. Подтелкова и М.В. Кривошлы-кова среди казачества Дона, на том, что их имена стали знаменем борьбы революционного казачества за советскую власть [15]. Автор отмечал, что толчком к написанию былины послужило посещение хутора Пономарева, где погибли подтелковцы. Статья пронизана пафосом: «Богатыри не перевелись на Дону, Кубани и Тереке. Советские казаки, самоотверженные строители социализма, казацкой шашкой начисто снесут свиное рыло, которое сунется в наш советский огород» [15]. Публикации былины и воспоминаний М.П. Мошкарева в разгар кампании «за советское казачество» отвечали задачам создания героев и формирования точки отсчета для общей исторической памяти советского казачества.
Имена Ф.Г. Подтелкова и М.В. Кривош-лыкова еще несколько раз прозвучали со страниц прессы. Так, с приветственным словом к казачеству обратился отец М.В. Кривошлы-кова: «Донцы, кубанцы, терцы! Помните о славном казаке, моем сыне Михаиле! Вместе с Подтелковым он сложил голову за трудовой народ, за советскую власть...» [28]. Это обращение было напечатано рядом с привет- ственными словами М.А. Шолохова и А.С. Серафимовича в день, когда в Ростове-на-Дону проходило масштабное праздничное мероприятие с участием казачества. В опубликованной в этом же номере газеты «Молот» статье А. Распопина «Найденная доля» имена Ф.Г. Подтелкова и М.В. Кривошлыкова фактически были поставлены в один ряд с именами С. Разина, К. Булавина и Е. Пугачева, которых автор позиционировал как борцов за свободу беднейшего казачества [21]. В 1937 г. вышло художественное произведение И.П. Горелова «Подтелков и Кривошлы-ков» с описанием гибели отряда Подтелкова.
Впоследствии в советской литературе сложились образы Ф.Г. Подтелкова и М.В. Кри-вошлыкова как народных героев. Из других форм коммеморации назовем образование в 1935 г. Подтелковского района Сталинградского края. В списках Шахтинско-Донецкого округа Северо-Кавказского края еще в 1926 г. существовал Подтелковский сельсовет [19].
И все же значительной коммеморации в отношении Ф.Г. Подтелкова и М.В. Кривош-лыкова не сложилось. Основной причиной являлась краткосрочность кампании «за советское казачество», которая фактически была свернута к концу 1936 года. Кампания выполнила свои задачи – необходимый власти образ советского казачества был сформирован и транслирован как внутри Советского государства, так и вовне его. Советская власть не собиралась в полной мере восстанавливать казачество, незачем было всерьез создавать обширное пространство исторической памяти о нем.
Кроме этого, образ Ф.Г. Подтелкова был противоречив. До того как принять мученическую смерть, он расправился с пленными офицерами из партизанского отряда есаула В.М. Чернецова. Это противоречие отразил в романе М.А. Шолохов в сцене разговора Григория Мелехова с Подтелковым перед казнью: «Под Глубокой бой помнишь? Помнишь, как офицеров стреляли... По твоему приказу стреляли! А? Теперича тебе отрыгивается» [35, с. 666]. Таким образом, образ Подтелкова не был безоговорочно героическим в среде донских казаков.
Результаты. Политика памяти на казачьих территориях в 1920–1930-х гг. разраба- тывалась с учетом специфической политики в отношении казачества. Расказачивание не предусматривало сохранение казаков как специфической группы внутри советского общества, поэтому создание особого пространства памяти в отношении них не планировалось. Коммеморация участия казаков в Гражданской войне возникала ситуативно, в соответствии с корректировкой курса большевиков. Необходимость вовлечения казаков в советское строительство, трансляция образа советского казачества, активное привлечение последних к военному делу выступали факторами создания пространства памяти и коммеморативных практик. Единственным актором в этом процессе была власть.
Можно выделить два этапа раннесоветского периода в отношении конструирования пространства памяти. Первый этап – с середины 1920-х гг. до начала 1930-х гг. – характеризовался акцентировкой внимания на трагедии казачества в Гражданской войне, продвижением культурной специфики казачества. Ключевой мемориальной формой здесь являлись произведения М.А. Шолохова. Второй этап – середина 1930-х гг. – связан с кампанией «за советское казачество». Его главной особенностью стало усиленное продвижение темы красного казачества и его роли в борьбе с белыми на юге России. Для успешного конструирования нового исторического образа казаков связывали с именами легендарных маршалов – С.М. Буденного и К.Е. Ворошилова, с легендой Гражданской войны – Первой конной армией. Ключевой коммеморативной практикой на этом этапе были публикации в прессе. Важным моментом стало нахождение точки отсчета для формирования коллективной памяти казаков о Гражданской войне и ее центральных героях – Ф.Г. Подтелкове и М.В. Кривошлыкове и в целом гибели отряда красных казаков от рук белых казаков.
В пространстве памяти раннесоветского периода в отношении казачества присутствовали и такие коммеморативные практики, как топонимические названия, памятники. Но они были очень ограничены по распространению.
Слабая развитость коммеморации в отношении казачества определялась антагонизмом казаков в отношении большевистской власти в период Гражданской войны и лими- тированным набором героев и героических сюжетов, но главное – сохранявшейся политикой расказачивания.