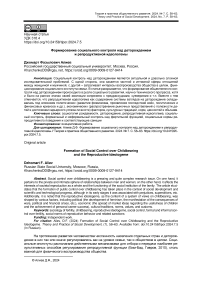Формирование социального контроля над деторождением и репродуктивной идеологемы
Автор: Алиев Д.Ф.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 7, 2024 года.
Бесплатный доступ
Социальный контроль над деторождением является актуальной и довольно сложной исследовательской проблемой. С одной стороны, она касается частной и интимной сферы отношений между женщиной и мужчиной, с другой - затрагивает интересы воспроизводства общества в целом, функционирования социального института семьи. В статье раскрывается, что формирование общественного контроля над деторождением происходило в русле социального развития, научно-технического прогресса, хотя и было на ранних этапах своей эволюции сопряжено с предрассудками, суевериями и т.п. Вместе с тем отмечается, что репродуктивная идеологема как содержание системы взглядов на деторождение складывалась под влиянием политических (развитие феминизма, проявление последствий войн, политических и финансовых кризисов и др.), экономических (распространение рыночных представлений о полезности детей и достижении карьерного успеха личности) факторов, культурных традиций, норм, ценностей и обычаев.
Социология рождаемости, деторождение, репродуктивная идеологема, социальный контроль, формальный и неформальный контроль над фертильной функцией, социальные нормы репродуктивного поведения и соответствующие санкции
Короткий адрес: https://sciup.org/149146392
IDR: 149146392 | УДК: 316.4 | DOI: 10.24158/tipor.2024.7.5
Текст научной статьи Формирование социального контроля над деторождением и репродуктивной идеологемы
Российский государственный социальный университет, Москва, Россия, ,
,
В различных культурах в разные исторические эпохи был накоплен определенный опыт официального и неофициального контроля над деторождением на социетальном и межличностном уровнях. Конечно, он варьировался в зависимости от социокультурных взглядов и распространенных на тот период ценностей, норм и знаний, связанных преимущественно с религиозными и политико-правовыми представлениями, возможностями медицины, изменениями в положении женщины и института семьи.
В Древнем мире способы контроля детородной функции человека были задокументированы еще до нашей эры: Папирус Эберса (1550 г. до н.э.) и Папирус Кахуна (примерно 1850 г. до н.э.) включали одни из самых ранних предписаний контроля рождаемости с помощью употребления определенных растений1. Стоит отметить, что ряд методов предохранения от беременности, использовавшихся в древности, сохранился до настоящего времени, например, прерванный половой акт, грудное вскармливание.
Впоследствии медиками было определено, что сфера, связанная с репродуктивным поведением, во многом была наполнена суевериями, а прием всевозможных снадобий и проведение обрядов неэффективно и порой небезопасно, хотя отдельные способы физиологического и механического предупреждения нежелательной беременности вполне могут быть применимы.
В Европе эпохи Средневековья любые попытки вмешаться в заложенную природой репродуктивную функцию осуждались2. Тем не менее люди того времени прибегали к употреблению средств, которым приписывались контрацептивные свойства, и даже к убийству нежеланных но-ворожденных3. При этом женщин, уличенных в контроле деторождения, могли посчитать ведьмами и предать санкциям святой инквизиции. В 1484 г. папа Иннокентий VIII обнародовал официальный документ (папскую буллу), где таким «ведьмам» предъявлялись обвинения в преградах в зачатии (контрацепции) и в убийстве младенцев в утробах матерей (абортах)4. Уличенных ожидало суровое наказание.
Позднее, в XVIII в., появились упоминания о первых презервативах как средствах ограничения нежелательных беременностей (Dingwall, 1953).
Контроль над рождаемостью выступил предметом политических споров в Великобритании XIX в. Томас Мальтус, в частности, считал, что нерегулируемый рост населения может создать угрозу истощения ресурсов существования. Будучи священником, он советовал сексуальный аскетизм (целомудрие) и поздние браки, которые обеспечили бы не только более высокий уровень жизни и значительную экономическую устойчивость, но и соблюдение христианских моральных норм5.
С конца XIX в. существенную роль в контроле над деторождением начал играть феминизм, сторонники которого рассматривали контрацепцию как проявление женской эмансипации (Gordon, 2002). В 1877 г. была образована Мальтузианская лига, которая занималась агитацией в пользу планирования семьи и регулирования рождаемости.
Развитие промышленности привело к тому, что женщины, все больше вовлекаемые в индустриальное производство, стали вступать в брак позже, и среди городских семей постепенно распространялась малодетность. Это указывает также на то, что многие женщины уже тогда знали, как контролировать детородный процесс, а средства контрацепции имелись в широкой продаже (Draznin, 2001).
В США в это время регулирование рождаемости было вполне легальным, но в 1870-х гг. было запрещено распространение информации о «безопасном» сексе. Однако в 1914 г. Маргарет Сэнгер и Отто Бобсейн вновь популяризировали контроль над рождаемостью. Концепция М. Сэнгер к 1930-м гг. распространилась за пределы Соединенных Штатов и приобрела международную популярность (Jimmy, Wilkinson, 2004).
В 1921 г. в Великобритании Мари Стоупс и ее супруг Хамфри Вердон Роу в сотрудничестве с М. Сэнгер и Мальтузианской лигой открыли в Лондоне клинику для матерей. В ней работали профессиональные акушерки и врачи, поэтому обучение контрацепции в ней было признано научно обоснованным6. Вскоре после этого Мальтузианская лига основала вторую похожую кли-нику7. На протяжении 20-х гг. ХХ столетия М. Стоупс и ее последовательницы-феминистки пропагандировали соответствующее половое воспитание и распространение сведений в области репродуктивного здоровья8.
Постепенно социальный контроль над репродуктивным поведением граждан Великобритании начал распространяться и на население британских колоний, прежде всего, в Индии. В 1921 г. профессор Рагхунатх Дхондо Карве открыл первую в этой стране клинику по контролю над рождаемостью в Мумбаи; он также издавал соответствующий ежемесячный журнал «Самадж Свастья» с 1927 по 1953 гг.1
Таким образом, в истории человеческого общества способы воздействия на людей с целью упорядочения детородной функции были самые разные – формальные и неформальные, запретительные и стимулирующие.
Начиная с 1930-х гг. ХХ столетия движение за регулирование деторождений выступало за легализацию абортов и осуществление правительствами масштабных просветительских кампаний о контрацепции (Gordon, 2002). Формирование репродуктивной идеологемы отразило противостояние между консервативными и либеральными ценностями, касающимися личной свободы, интересов семьи, вмешательства государства, политики и религии в сексуальную мораль (Gordon, 2002).
Во второй половине ХХ в. социальные практики воздействия на репродуктивное поведение получили дальнейшее развитие. Грегори Пинкус и Джон Рок с помощью Федерации планирования семьи Америки разработали первые противозачаточные таблетки, которые стали общедоступными в 1960-х гг. (Dudley, 2010). Во Франции в 1967 г. был упразднен Закон о деторождении 1920 г., который запрещал публикации по контролю над рождаемостью2. В 1970 г. в католической Италии женщины обрели легальный доступ к информации о контроле над фертильностью (Hunt et al., 2009) и т.д.
В дореволюционной России приемами регулирования деторождений были социальные практики плодоизгнания. До XVII в. они не считались криминальными, хотя порицались со стороны религии и морали. С усилением абсолютной монархии контроль над репродуктивным поведением населения полностью взяло на себя государство, признав плодоизгнание уголовно наказуемым деянием. Появились механизмы привлечения к ответственности и санкции в отношении лиц, виновных в совершении абортов (Мицюк, Пушкарева, 2019: 159).
Тем не менее среди простого народа сложились разнообразные способы воздействия на репродуктивную функцию. Основным неформальным каналом трансляции информации о них являлась та часть женского сообщества, которую составляли деревенские повитухи, народные целительницы и т.п. Понемногу приемы вмешательства в фертильное поведение обрели всесословный характер, проникая в жизнь городских семей из сельского быта через прислугу, кормилиц, нянь и др. История законных преследований за подпольные аборты и т.п. показала неэффективность привлечения конкретных женщин к суду и всей системы государственного контроля над репродуктивным поведением населения. Судебные разбирательства обнаружили ничтожность приговоров по обвинению в искусственном прерывании беременности (Мицюк, Пушкарева, 2019).
Отечественная демографическая история последних столетий была наполнена множеством противоречивых событий, которые в совокупности обусловили устойчивый тренд снижения рождаемости.
В Советском Союзе контроль над демографической ситуацией служил для содействия общественному равенству мужчин и женщин. Александра Коллонтай, комиссар социального обеспечения СССР, инициировала половое просвещение масс, в том числе в области управления репродуктивным поведением. В 1920 г. совместное постановление народных комиссариатов здравоохранения и юстиции в разделе «Об охране здоровья женщин» легализовало аборты (исключительно в медицинских учреждениях)3; о других методах контрацепции тогда было известно мало (Алиев и др., 2023: 8).
На протяжении ХХ столетия в нашей стране произошли 4 демографических кризиса, которые существенно повлияли на снижение численности населения в целом и фертильного в частности. Первый кризис (1914–1922 гг.) был связан с периодом Первой мировой и Гражданской войн и их последствиями (гибель большого числа молодых мужчин и т.д.). Второй (1929–1934 гг.) – пришелся на время политических репрессий, голода и также привел к уменьшению численности населения. Третий кризис (1941–1946 гг.) был связан с Великой Отечественной войной и тяжелым восстановлением государства после нее. В целом, вторая половина ХХ в. характеризовалась снижением рождаемости вдвое (с 26,9 до 13,4 %) (Лян Хунци, 2019: 35).
Следует отметить, что послевоенные годы деструктивны для воспроизводства населения не просто численными потерями, но и качественными ухудшениями фертильного контингента (молодым девушкам на протяжении нескольких лет после войны не от кого рожать или приходится беременеть от не совсем здоровых и молодых мужчин, которые не были призваны в армию или пострадали в боевых действиях). И потомство также может иметь проблемы со здоровьем как результат ухудшения генофонда. Причем ситуация будет повторяться в поколениях, потому что такие малочисленные и генетически ослабленные когорты, вступая в фертильный возраст, также будут отличаться меньшей плодовитостью.
В целях стимулирования рождаемости в Советском Союзе в 1935–1955 гг. был введен запрет на аборты, а с 1941-го по 1991 гг. действовал налог на бездетность в размере 6 % от зарплаты мужчины. В 1944 г. было учреждено звание «Мать-героиня» (за рождение 10 детей), которое позволяло женщине пользоваться рядом льгот. В 1984 г. было введено ежемесячное пособие по беременности и родам, а также единоразовое пособие при рождении ребенка1. Все это так или иначе позволяло регулировать демографическую ситуацию в русле нужной государству про-наталистской направленности.
Четвертый демографический кризис пришелся в нашей стране на сложные 1990-е гг. В конце ХХ столетия в России была зарегистрирована убыль населения. После распада СССР отсоединились союзные кавказские и среднеазиатские республики, для которых была свойственна традиционная многодетность. Политическая нестабильность, многочисленные экономические и социальные проблемы общества отбросили множество российских семей за черту бедности. Возросло количество разводов и внебрачных сожительств, что всегда неблагоприятно отражается на репродуктивном поведении населения. При этом мер социально-демографической политики в контексте помощи семьям с детьми не хватало для стимулирования граждан к деторождению. По-видимому, тогда было упущено время, так как предпринятые в XXI в. меры поддержки рождаемости не смогли возместить демографические потери девяностых (Tanatova et al., 2020).
Для поддержки семей с детьми в Российской Федерации была сохранена советская система выплат пособий по беременности и родам и при рождении ребенка, но упразднено звание «Мать-героиня». При этом было добавлено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. С 2006 г. в рамках национального проекта «Здоровье» введена система родовых сертификатов, установлен материнский (родительский) капитал.
В настоящее время Президентом РФ поставлена задача повышения суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 в 2030 г. и до 1,8 – в 2036 г.2 Но на рождаемости негативно отражается целый ряд факторов: низкий доход многих семей, отсутствие нормальных жилищных условий, ориентация на мало- и даже бездетность, увеличение доли неполных семей, низкий уровень репродуктивного здоровья, тяжелый труд многих работающих женщин, большое количество абор-тов3. Как показывают недавние социологические опросы, среди россиян доминирует установка на рождение двух (и лишь в отдельных случаях – трех) детей4. Тому способствует комплекс причин – материально-бытовые трудности семей, противоречия между карьерными амбициями и продолжительностью фертильного возраста, напряженная международная обстановка и ее потенциальные отрицательные последствия для социальной стабильности, личные проблемы супругов (Танатова, Королев, 2023).
Следовательно, контроль над репродуктивным поведением определяется совокупностью разного рода факторов: исторических, политических, социальных, экономических, психологических, культурных, этических. Они, с одной стороны, формируют потребность в детях, а с другой – могут препятствовать ее реализации.
С началом третьего тысячелетия в нашей стране сложились, по мнению ученых (Козлова, Секицки-Павленко, 2020), три модели репродуктивного поведения. Наиболее распространенная в последнее время (начиная с 2016 г.) опирается на личные предпочтения женщин – вначале получение образования, затем построение карьеры и потом только создание семьи. Главным фактором рождения ребенка выступает рациональное поведение семей или матерей, что описывается в теориях рационального выбора и поведения потребителей (Козлова, Секицки-Павленко, 2020).
В то же время в целях социального контроля над рождаемостью государство усиливает меры по охране материнства и детства, в том числе такие, как пособия семьям с детьми, материнский (семейный) капитал, родовой сертификат, семейная ипотека, содействие занятости работающим родителям и др.1
Таким образом, сегодня можно говорить о трансформациях репродуктивного поведения, обусловленных вовлечением женщин в общественное производство и изменением их социального положения и статуса в семье, модернизацией института семьи. Формирование общественного контроля над деторождением и репродуктивной идеологемы связано с тем, что на рождаемость деструктивно повлияли такие макрофакторы, как развитие промышленного производства, урбанизация, обусловившие сокращение размеров городской семьи в тесных квартирах и в контексте тотальной трудовой занятости, перевод женщин из традиционного семейного производства, где число детей определяло рабочую силу в семье, в общественное, что вызывает переориентацию с материнства на роль эффективного сотрудника и т.д. Нуклеаризация семей привела к тому, что бабушки, которые традиционно помогали в воспитании детей, стали жить в основном отдельно, а матери, особенно одинокие, не могут самостоятельно обеспечить ни материально, ни уходом большое количество детей (Вдовина, 2008).
В условиях научно-технического прогресса и развития современного производства и сферы услуг возникает удлинение процесса профессиональной социализации, что не позволяет многим рожать в молодом возрасте. Работающие супруги объективно вынуждены откладывать реализацию своей детородной функции на более поздние сроки, чтобы выучиться, профессионально определиться и самореализоваться, накопить капитал для рождения и обеспечения детей.
Одновременно научно-технический прогресс способствует успехам медицины. Снижается младенческая и материнская смертность, отпадает необходимость в большом количестве рождений, чтобы компенсировать естественную убыль детского населения вследствие болезней. Развиваются вспомогательные репродуктивные технологии, которые позволяют женщине отложить беременность и родить в более старшем возрасте, но уже меньшее число детей. С одной стороны, такие инновационные технологии дают шанс стать родителями бесплодным супружеским парам, с другой – в общественном мнении понемногу уменьшается стигматизация поздно родивших, «детей из пробирки», особенно в крупных городах. Социальный контроль становится терпимее к отложенному деторождению.
Таким образом, изменения в семье, связанные с повышением неустойчивости институтов брака и родства, негативно отражаются на репродуктивном поведении людей. Деструктивные последствия снижения рождаемости угрожают развитию общества. В сфере экономики они приводят к сокращению трудовых ресурсов, уменьшению интеллектуального потенциала страны, снижению пенсионного обеспечения; в политическом аспекте – отрицательно влияют на обороноспособность государства, возможности поддержания социальной стабильности и порядка; в области семейных связей – приводят к снижению устойчивости брака, ослаблению традиции неформальной взаимопомощи среди родственников; те или иные методы контрацепции далеко не всегда способствуют здоровью населения, порой даже противоречат моральным ценностям и нормам права и т.д.
Список литературы Формирование социального контроля над деторождением и репродуктивной идеологемы
- Алиев Д.Ф., Тактаров В.Г., Танатова Д.К. Сексуальная революция 100-летней давности и современность // Социальная политика и социология. 2023. Т. 22, № 4 (149). С. 7–14. https://doi.org/10.17922/2071-3665-2023-22-4-7-14.
- Бим-Бад Б.М., Гавров С.Н. Модернизация института семьи: макросоциологический и антрополого-педагогический анализ. М., 2010. 337 с.
- Вдовина М.В. Межпоколенческий конфликт в семье и его регулирование. М., 2008. 208 с.
- Козлова О.А., Секицки-Павленко О.О. Модели рождаемости и репродуктивного поведения женского населения России: современные тенденции // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2020. Т. 13, № 5. С. 218–231. https://doi.org/10.15838/esc.2020.5.71.13.
- Лян Хунци. Демографическая политика в России: исторический аспект // Мир русскоговорящих стран. 2019. № 2 (2). С. 33–43. https://doi.org/10.24411/2658-7866-2019-10004.
- Мицюк Н.А., Пушкарева Н.Л. «Плодоизгнание» как основной способ контроля рождаемости у крестьянок XIX в. // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. 2019. Т. 18, № 3. С. 159–170.
- Танатова Д.К., Королев И.В. Демографические тенденции и репродуктивные установки населения России // Социальная политика и социология. 2023. Т. 22, № 3 (148). С. 21–28. https://doi.org/10.17922/2071-3665-2023-22-3-21-28.
- Dingwall E.J. Early Contraceptive Shells // British Medical Journal. 1953. № 1 (4800). P. 40–41.
- Draznin Ya.K. Victorian London's Middle-Class Housewife: What She Did All Day. Connecticut, 2001. 227 р.
- Dudley P. Population and Society: an Introduction to Demography. N. Y., 2010. 456 р.
- Gordon L. The Moral Property of Women: a History of Birth Control Politics in America. Illinois, 2002. 296 p.
- Hunt L., Martin T.R., Rosenwein B.H., Hsia R.P., Smith B.G. The Making of the West: Peoples and Cultures. Boston, 2009. 1376 р.
- Jimmy E., Wilkinson M. Any Friend of the Movement: Networking for Birth Control, 1920–1940. Columbus, 2004. 296 р.
- Tanatova D.K., Yudina T.N., Fomicheva T.V., Dolgorukova I.V., Korolev I.V. Reproductive Behavior in Russia and Countries of the World: Axiological Aspect // Digital Economy: Complexity and Variety vs. Rationality. Vladimir, 2020. Р. 739–749. https://doi.org/10.1007/978-3-030-29586-8_85.