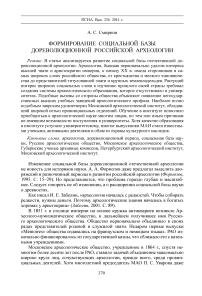Формирование социальной базы дореволюционной российской археологии
Автор: Смирнов А. С.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Вопросы теории и истории археологии, организация полевых археологических исследований
Статья в выпуске: 236, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется развитие социальной базы отечественной дореволюционной археологии. Археология, бывшая первоначально уделом интереса высшей знати и аристократии империи, к началу ХХ в. имела сторонников в самых широких слоях российского общества, от крестьянства и мелкого чиновничества до представителей титулованной знати и крупных землевладельцев. Растущий интерес широких социальных слоев к изучению прошлого своей страны требовал создания системы археологического образования, которое отсутствовало в университетах. Подобные вызовы со стороны общества объясняют появление негосударственных высших учебных заведений археологического профиля. Наиболее полно подобным запросам удовлетворял Московский археологический институт, обладавший широкой сетью провинциальных отделений. Обучение в институте позволяло приобщиться к археологической науке многим лицам, по тем или иным причинам не имевшим возможности поступления в университеты. Хотя качество образования в институте уступало университетскому, многие выпускники МАИ стали известными учеными, активными деятелями в области охраны культурного наследия.
Археология, дореволюционный период, социальная база науки, русское археологическое общество, московское археологическое общества, губернские ученые архивные комиссии, петербургский археологический институт, московский археологический институт
Короткий адрес: https://sciup.org/14328106
IDR: 14328106
Текст научной статьи Формирование социальной базы дореволюционной российской археологии
В 1851 г. в столице империи на основе кружка антиквариев возникло Археолого-нумизматическое общество, в дальнейшем получившее имя Русского археологического общества. Общество первоначально объединяло в своих рядах представителей родовой и служилой знати. Недаром первые выпуски «Mémoires» общества издавались на французском и немецком языках. РАО изначально финансировалось из государственной казны, что сближало его с казенными учреждениями.
Московское археологическое общество, учрежденное в 1864 г., спустя немногим более десяти лет после РАО, ставило задачей объединение максимально широко круга лиц, сочувствующих археологии, прежде всего, среди провинциальных деятелей. Хотя многолетний председатель МАО П. С. Уварова даже в 1911 г. оставалась при мнении, что «археология – наука людей богатых», о чем и заявила в своем выступлении на XV археологическом съезде в Новгороде. Тем не менее, мелкопоместные дворяне, чиновники из разночинцев, сельские священнослужители были не редкостью среди членов общества.
Повсеместно возникавшие, начиная с 1884 г., Губернские ученые архивные комиссии объединили в своих рядах еще большее число неофитов от археологии, значительная часть которых была по происхождению из податных сословий.
Вовлечение в круг исследователей древностей столь большого числа желающих не могло не поставить на повестку дня вопрос об археологическом образовании. Эта проблема не раз поднималась на археологических съездах, но своего решения в рамках университетской системы так и не получила.
Ответом на запрос общества о необходимости специализированного археологического образования стали негосударственные археологические институты в Санкт-Петербурге и Москве, учрежденные в качестве частных высших учебных заведений. Формально их действительными слушателями могли стать только люди с высшим образованием. Но система вольнослушателей и некоторые лазейки в «Положениях» об институтах позволяли посещать лекции людям, не имевшим высшего, а нередко и гимназического образования. Все это давало шанс многим, чувствовавшим тягу к изучению прошлого своей страны, но, по ряду причин, лишенным права или возможности поступления в университеты,получить желанные знания.
В истории создания Петербургского и Московского археологических институтов отразились характерные черты своего времени. Петербургский археологический институт был учрежден в 1877 г. по инициативе одного из высших чиновников империи сенатора Н. В. Калачова. Первоначально число его слушателей было столь невелико, что чтение лекций происходило на квартире учредителя. Да и существовал он в первые годы во многом благодаря энергии Н. В. Калачева.
В этом плане показательна попытка создания сенатором археологического института в Москве в 1885 г. Для нового высшего учебного заведения были предусмотрены помещения в сооруженном Н. В. Калачовым новом здании архива министерства юстиции, где ныне размещается Архив древних актов. Над входом в залы института была выбита соответствующая надпись и начата закупка мебели для аудиторий. Но внезапная смерть Н. В. Калачова похоронила это практически созданное учебное заведение. Какой-либо широкой поддержки в обществе это начинание не получило.
Московский археологический институт был создан в 1907 г. двумя разночинцами, хотя и достигшими высот в своей карьере. Это были: помощник командующего войсками Московского военного округа генерал-лейтенант В. Г. Глазов, родившийся в семье врача в подмосковном Клину, и архивариус Московского отделения Общего архива императорского двора А. И. Успенский, сын сельского священника Тульской губернии. Именно благодаря им в институте появилось специализированное археологическое отделение, чего не было в Санкт-Петербурге. Одной из главных задач института провозглашалась популяризация археологических знаний (ОПИ ГИМ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 174. Л. 5 об.).
Идея создания Московского археологического института была полностью инициативой «снизу», изначально получившая широкую общественную подде- ржку. В первый год деятельности института число его слушателей превысило 200 человек, а в последствие достигло 1000 (ОПИ ГИМ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 174. Л. 7 об.).
Обучение в Московском археологическом институте стоило 60 руб. в год, немалую по тем временам сумму. Тем не менее, в числе слушателей института были крестьяне, типографские рабочие, приказчики, купцы, чиновники, офицеры. Многие из них не имели высшего образования, да и со средствами на обучение у них было много проблем. И все же, разными способами добывая необходимые деньги, они продолжали слушание лекций.
Подобные настроения были характерны не только для первопрестольной. Отделения института появились в Смоленске, Калуге, Витебске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Ростове Великом, Воронеже, Оренбурге. Велись переговоры об открытии отделений в Вильно, Орле, Курске и Рязани. Российская провинция была охвачена интересом к своему прошлому. Недаром именно в начале ХХ в. появилась новая форма организации археологической науки – областные археологические съезды, знаменовавшие качественное изменение в уровне профессионализации провинциальных научных деятелей.
Следует согласиться с тем, что уровень преподавания в Московском археологическом институте оставлял желать лучшего. Порядок обучения в этом, формально высшем, учебном заведении был весьма и весьма либеральным. Снисходительное отношение со стороны преподавателей к экзаменующимся было распространенным явлением. Далеко не всегда слушатели сдавали все предусмотренные учебным планом экзамены. Многих, не имевших гимназического образования, освобождали от предметов, связанных с изучением древних языков. Бывало и сами экзамены, по просьбам слушателей, переносились на следующий год.
Но люди, искренне стремившиеся к изучению археологии, получали в институте знания, позволившие им в дальнейшем стать известными учеными, заслужившими признание научного сообщества. Среди выпускников Московского археологического института Д. Н. Эдинг, Ф. В. Баллод, В. В. Гольмстен, Ю. Г. Гендуне, А. Н. Лявданский, Б. С. Жуков, С. Н. Замятнин, М. Е. Фосс, П. С. Рыков. Из стен института вышли будущий профессор Латвийского университета и сотрудник Института истории материальной культуры АН Латвийской ССР Б. Р. Брежго, автор раскопок Афонтовой горы и иных памятников Сибири Н. К. Ауэрбах, исследователь памятников Крыма и Кавказа А. С. Башкиров, знатоки прошлого Урала В. П. Бирюков и А. А. Берс, один из корифеев археологии Средней Азии Г. И. Павильно-Пацевич.
Можно вспомнить: начинателя якутской археологии Е. Д. Стрелова; руководителя краеведческого движения на Витебщине в 1920-е гг. Д. М. Василевского; заместителя директора Витебского исторического музея Н. Н. Богородского; заместителя директора белорусского Центрархива М. В. Мелешко; профессора Белорусского государственного университета И. А. Сербова; директора Слонимского исторического музея И. И. Стабровского; декана исторического факультета Горьковского университета В. Т. Илларионова и многих других.
Интерес к прошлому привлекал в институт людей, которые не связывали свое профессиональное будущее с историей и археологией, но заслужили при- знание на иных поприщах. В МАИ слушали лекции И. Д. Луцевич, получивший известность как поэт Янка Купала, И. Д. Иванов, впоследствии заслуживший всемирное признание скульптор Иван Шадр.
Выпускниками Московского археологического института в начале 1920-х гг. были укомплектованы многие местные просветительские и учебные организации. Поэтому, когда в 1922 г. было принято решение о закрытии Московского археологического института и его отделений, помимо учащихся, против были и многие руководители губернских управлений Наркомпроса и архивного ведомства, утверждая, что в противном случае невозможно будет укомплектовать подчиненные им учреждения квалифицированными сотрудниками (ГАРФ. Ф. А-298. Оп. 2. Д. 8. Л. 8, 12, 13, 16, 17).
Следует согласиться с тем, что упразднение Московского археологического института и слияние его с Московским университетом, с точки зрения уровня профессиональной подготовки ученых-археологов, было оправданным. Качество университетского образования, несомненно, выше, систематичнее и полнее, нежели было в МАИ.
Но с закрытием Московского археологического института исчезла та образовательная база, которая позволяла многим желающим приобщиться к тайнам изучения прошлого, формировала пласт подвижников изучения и сохранения древностей на местах, способствовала созданию когорты образованных краеведов. А главное – удовлетворяла потребности провинциального общества, проявлявшего недюжинный интерес к прошлому своей родины.
Недаром по образу и подобию Московского археологического института позднее были созданы археологические институты в Казани, Киеве, Ростове-на-Дону, Одессе. Но их история была недолгой, они разделили участь МАИ.
Все это свидетельствует о том, что за полвека, прошедшие со дня образования Русского археологического общества, интерес к археологии, бывший изначально делом узкого круга дилетантов-аристократов, в начале ХХ в. стал достоянием широких кругов не только столичного, но и провинциального общества. Расширение социальной базы археологической науки вызвало к жизни ряд негосударственных высших учебных заведений. Учреждение археологических институтов было реакцией на запрос общества, свидетельствующий о росте интереса к прошлому своей страны, проникшего во все социальные слои, формируя в дореволюционной России широкое внесословное сообщество людей, ставивших своей задачей изучение, охранение и пропаганду памятников археологии.
Список литературы Формирование социальной базы дореволюционной российской археологии
- Забелин И.Е., 2001. Дневники. Записные книжки. М.: Изд-во имени Сабашниковых. 384 с.
- Формозов А.А., 1995. Русские археологи до и после революции. М.: ИА РАН. 113 с.