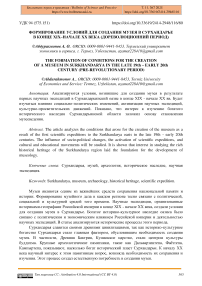Формирование условий для создания музея в Сурхандарье в конце XIX – начале XX века (дореволюционный период)
Автор: Абдурахмонов А.О.
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Социальные и гуманитарные науки
Статья в выпуске: 7 т.11, 2025 года.
Бесплатный доступ
Анализируются условия, возникшие для создания музея в результате первых научных экспедиций в Сурхандарьинский оазис в конце XIX - начале XX вв. Будет изучаться влияние социально-политических изменений, активизация научных экспедиций, культурно-просветительских движений. Показано, что интерес к изучению богатого исторического наследия Сурхандарьинской области заложил основу становления музееведения.
Сурхандарья, музей, археология, историческое наследие, научная экспедиция
Короткий адрес: https://sciup.org/14133395
IDR: 14133395 | УДК: 94 | DOI: 10.33619/2414-2948/116/80
Текст научной статьи Формирование условий для создания музея в Сурхандарье в конце XIX – начале XX века (дореволюционный период)
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №7 2025
УДК 94 (575.151)
Музеи являются одним из важнейших средств сохранения национальной памяти и истории. Формирование музейного дела в каждом регионе тесно связано с политической, социальной и культурной средой того времени. Научные экспедиции, организованные историками-географами Российской империи в конце XIX - начале XX века, создали условия для создания музея в Сурхандарье. Богатое историко-культурное наследие оазиса было связано с политическим и экономическим влиянием Российской империи и деятельностью научных экспедиций. В статье анализируются исторические процессы этого периода.
Сурхандарья славится своими древними цивилизациями, так как историко-культурное богатство Сурхандарьи стало главным фактором, обусловившим необходимость создания музея. В частности, Древняя Бактрия, Кушанское царство, стали центром культуры буддизма. Крупные археологические памятники, такие как Дальварзинтепа, Фаёзтепа, Кампыртепа, показывают, насколько богат исторический пласт Сурхандарьи. К началу XX века научный интерес к этим памятникам возрос, возникла необходимость их сохранения и изучения. Этот процесс создал естественную потребность в создании музея.
Источниковую базу работы составили архивные и опубликованные материалы, отражающие археологические и музейные инициативы в Старом Термезе конца XIX — начала XX вв. В числе архивных источников использованы отчёты Туркестанского генерал-губернаторства, полевые дневники исследователей (Д.Н. Логофет, Н.А. Маев, А.Б. Вревский и др.), документы Бухарского эмирата и переписка членов Туркестанского отдела Императорского Русского географического общества. Среди опубликованных материалов проанализированы статьи дореволюционной прессы («Туркестанские ведомости», «Записки Туркестанского отдела РГО»), мемуары участников экспедиций, а также труды российских и зарубежных учёных по археологии Средней Азии. Отдельное внимание уделено музейным каталогам и описаниям коллекций из Старого Термеза, хранящимся в российских собраниях.
Методологическую основу составили историко-хронологический, историографический и сравнительно-исторический методы, позволившие реконструировать этапы изучения Старого Термеза и эволюцию музейных практик. Контент-анализ текстов источников дал возможность выявить ключевые темы и исследовательские подходы, а визуальный и картографический анализ обеспечил локализацию объектов и оценку их сохранности.
Активизация научных исследований Российской империей в регионе После вхождения Восточной Бухары в состав Российской империи археологические и исторические исследования в регионе активизировались. Первоначально военные экспедиции и востоковеды начали выявлять и описывать древние памятники в этом районе. В результате научных исследований были составлены географические и исторические карты, а обнаруженные древние артефакты стали отправляться в Ташкент, Санкт-Петербург, Москву и другие научные центры. В результате данной деятельности была сформирована научная база, обосновывающая необходимость создания музея в данном регионе.
Особенно в 1880–1900 годах первые археологические наблюдения, проведённые русскими учёными, позволили выявить на этой территории древние буддийские памятники, находки периода Кушанской империи и раннеисламской эпохи. Обнаруженные в тот период археологические сокровища (скульптуры, монеты, керамические изделия) послужили основным источником для создания музея.
Как известно, история Старого Термеза с древности привлекала внимание историков и путешественников. В связи с этим многие исследователи внесли свой вклад в формирование коллекций, посвящённых истории Термеза. Одно из наиболее ранних сведений о развалинах опустевшего городища Термез, превратившегося уже в археологический объект вошло в научный обиход провидимому, только после возвращения из Бухары русского посольства 1820 года. Его секретарь, Г. Мейендорф, в описании путешествия этой миссии из Оренбурга в Бухару (опубликованном шесть лет спустя в Париже на французском языке писал, что развалины Термеза расположены напротив Шермеда, лежащего на левом берегу Амударья. Не видно там ничего, кроме груд щебня и камней; жилища, которые еще остаются, сделаны из земли [1].
Основываясь на показании Г. Мейендорфа и сопоставляя его с сообщением о возрождении Термеза после разгрома его монголами на новом месте, В. Тизенгаузен в 1853 году выступил в печати с предположением, что Шермед, вероятно, можно отождествить со вновь отстроенным городом, посещенным Ибн Батутою [2].
Английский географ Г. Юль в предисловии к изданию путешествия Вуда в 1872 году даже категорически утверждал, будто Термез, упомянутый Ибн Батутою, «все еще существует, но теперь мы ничего не слышимо нем». Это вызвало на следующий же год возражение А. П. Федченко, заявившего, что он слыхал только о развалинах Термеза [3].
В 1875 году по указанию генерал-губернатора Туркестана К. П. Кауфмана была организована экспедиция с целью глубокого изучения территории от Гиссарского хребта до Амударьи и до пределов Кулябского бекства. В связи с этим К. П. Кауфман 17 сентября 1874 года обратился с письмом к эмиру Бухары с просьбой разрешить членам экспедиции вход на земли Восточной Бухары и оказывать им всестороннюю поддержку. Руководство экспедицией было поручено редактору газеты «Туркестанские ведомости» Н. А. Маеву. Экспедиция Н. А. Маева в сентябре 1875 года отправилась из Самарканда для изучения территорий от Гиссарского хребта до Амударьи [4]. Таким образом, первые коллекции были собраны Н. А. Маевым в 1875–1879 годах с исторических памятников, расположенных вдоль Амударьи.
В начале августа 1879 года из Самарканда выступила так называемая Самарская ученая экспедиция. Из числа ее участников в Термезе побывали, между прочим, геолог И. В. Мушкетов, ботаник Н. А. Сорокин, инженер Н. Л. Ляпунов, переводчик Ф. Н. Жуков и писатель Н. Н. Каразин [5]. Со слов населения были записаны некоторые легенды о городе Гуль-гуля и его цитадели Зюнинабад. Н. Н. Каразин сделал несколько зарисовок с развалин. Романтическая направленность художника отрицательно сказалась на точности передачи объектов, что сильно понижает научную документальную ценность этих первых иллюстративных материалов по памятникам Термеза.
В апреле 1881 года по совету некоего русского офицера, участника миссии к афганскому эмиру Шир Али хану, городище Термеза посетили спутники X. Е. Уйфальв, французский путешественник Г. Бонвало и художник Капю, сделавший с памятников несколько примитивных зарисовок, очень условно отражающих натуру. В развалинах Гуль-гуля Г. Бонвало подробно осмотрел цитадель п указанные ему остатки источенного водой Аму раздвоенного берегового быка от моста, по поводу которого пришел к заключению, что, вероятно, его только начинали строить, но до конца это предприятие не довели.
Шесть лет спустя, осенью 1887 года, Г. Бонвало вновь посетил развалины Термеза, произвел там 7 ноября небольшие раскопки, давшие все же. по его самонадеянному заявлению, “значительные результаты”, и, прервав на этом начатую работу, направился к Чушка-Гузару. На обратном пути он опять делал некоторые раскопки в развалинах Термеза. Подробных сведений обо всех этих исследованиях, носивших характер только поверхностного шурфования, как будто опубликовано не было [6].
В 1890 году по поручению Археологической комиссии состоялась попутная научная поездка ориенталиста Е. Ф. Каля вдоль Аму-Дарьи. Его маршрут прошел сперва по левому берегу реки от Керки до крепости Дивкала на афганской территории, а зетем по правому - от Керки до устья Сурхана. Е. Ф. Калем подробно осмотрены развалины Термеза и, по его словам, “сделано там несколько раскопок, давших очень немного интересного. Попутно он произвел обмеры намогильного сооружения Хакими Термези, прочитал указанную дату смерти святого и частью списал, частью снял прочие надписи. В 1891 году состоялась его вторичная командировка по бухарскому берегу Аму-Дарьи, во время которой он умер в укреплении Керки, куда его доставили уже тяжело больным злокачественной малярией. Результаты этих исследований Е. Ф. Каля не публиковались и являются пока достоянием архивов. Добытые же им немногочисленные предметы поступили в свое время в Государственный Эрмитаж [7].
В 1882 году, когда Д. Н. Логофет, занимавший должность командира Амударьинской бригады на Бухарско-Афганской границе, направлялся из Самарканда в Сурхандарью, он обнаружил небольшую древнюю крепость в районе почтовой станции Дарбанд, на выходе из гор в долину [8]. Добравшись до Термеза, он зафиксировал обломки жжёного кирпича и
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №7 2025 разнообразные фрагменты посуды на большой площади [8]. Осмотрев древние руины на севере Термеза, на берегу Сурхандарьи, Д. Н. Логофет предположил, что они представляли собой столицу владений Чаганьяна [8].
Путешественник, кроме описания археологических памятников, собирал легендь, предания о них, сохранившиеся у местного населения. Свои впечатления об увиденном Д.Н. Логофет описал в книгах «Страна бесправия - Бухарское ханство» и «Бухарское ханство под русским протекторатом». Эти книги в пику России бьли переведень на английский язык и издань в Англии [9].
Кроме того, можно отметить коллекции, собранные в 1890–1891 годах Е. Ф. Калем, в 1894–1896 годах И. Т. Пословским, в 1896 году Н. Н. Гербиной-Крамеренковой и А. Б. Вревским, в 1894–1898 годах Б. Н. Литвиновым, в 1888–1912 годах А. А. Семёновым, а также в 1894–1912 годах Б. Н. Кастальским [10].
В октябре 1895 года, во время своей служебной командировки, военный инженер И. Т. Пославский (позднее действительный член и вице-председатель ТКЛА) ознакомился в течение двух дней с развалинами, носившими на карте названия Гуль-гуля и Термеза. И. Т. Пославский выступил с докладом о своих наблюдениях в заседании ТКЛА 26 февраля 1890 года [11].
При своей вторичной командировке в Среднюю Азию от Академии художеств классный художник Н. Н. Щербина-Крамаренко в 1896 году, после работ в Самарканде над обмерами и зарисовкой соборной мечети Бибиханым, проехал в Термез. Здесь он бегло ознакомился с находившимися в плохом состоянии памятниками, снял надпись с саганы Хакими Термези и сделал сбор с. поверхности большого количества орнаментированных и покрытых надписями фрагментов керамики. Более продолжительному изучению развалин воспрепятствовало заболевание Н. Н. Щербина-Крамаренко малярией, вынудившей его поторопиться с возвращением в Самарканд [12].
В том же году в числе подъемного материала с городища Термез в Музей ТКЛА поступило несколько примитивных глиняных фигурок и небольшое бронзовое изображение козла (по определению В. Ф. Ошанина - Copra megaceros), доставленные оттуда А. Б. Вревским. Другим последствием поездки последнего было сделанное по его настоянию бухарским эмиром распоряжение всем бекам ханства относительно охраны археологических памятников и доставления всех случайных находок предметов древности для отсылки их в музей ТКЛА [13].
В 1897 году развалины Термеза осматривал действительный член ТКЛА и участник экспедиции Г. А. Кузнецова И. Й. Гейер. Он доставил оттуда три фотографии: минарета, группы зданий у мавзолея Хакими Термези и саганы последнего. Надписи тыльной стороны саганы были в основном разобраны на заседании ТКЛА 28 августа того же года. Некоторые личные наблюдения И. И. Гейера нашли отражение в сжатом описании прнамударьинской группы развалин Термеза, помещенном в Путеводителе по Туркестану [14].
В 1898 году через Термез прошел маршрут военной рекогносцировки М. В. Грулева, который отметил, что «развалины города Термеза», примыкающего к руинам крепости Зюнынабад, на востоке сливаются с развалинами другого города Гуль-гуля или Гулистана. Беглость осмотра сказалась на крайней неточности его кратких описаний. Так, у него создалось впечатление, что на башнях приамударьинской группы развалин сохранилась местами облицовка из разноцветных глазурованных кирпичей и что сагана Хакими Термези сложена из плит тесаного гранита. Не будучи осведомленным о разборе основного текста надписи этой саганы, М. В. Грулев привел показания шейха и других лиц из местного населения, будто Термезата похоронен за 1250 лет до нашего времени, т. е. в VII веке [15].
В августе того же года через Термез возвращалась из Дарваза экспедиция Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, возглавлявшаяся А. А. Бобринским. Члены ее ознакомились с развалинами городища Термез и Гуль-гуля. Результаты этого посещения нашли отражение только в путевом очерке А. А. Семенова, который по состоянию здоровья сумел побывать лишь на группе усыпальниц Султан-Садат. В 1898 году военный инженер Г. Кастальский в своей книге «Краткие сведения о Термезе и его окрестностях» представил информацию о крепости Старого Термеза, мавзолеях альХакима ат-Термизи, Султона Саодата и крепости Кирк-Кыз [16]. Более или менее одновременное Б. Н. Кастальским развалины Термеза фотографировались Быковским и Н. И. Максимовым, а несколько позднее местным фотографом Тельминовым.
Проведение в районе Термеза земляных работ, связанных с упомянутым ирригационным строительством, вызвало в мае месяце 1902 года обращение правления ТКЛА в военно-топографический отдел с ходатайством о снятии копии плана местности Старого Термеза и к начальнику инженеров Туркестанского военного округа И. Т. Пославскомус просьбой иметь в виду при этом археологические задачи кружка [17].
Топографический отдел действительно представил ТКЛА выкопировку с плана 1897 года приамударьинской группы развалин, а также Нагарахана и Кишмишхана. Нет никаких данных, что просьба об археологическом надзоре дала какие-либо реальные результаты. Между тем, как указал мне Б. Н. Засыпкин, среди имущества бывшего Музея Строгановского училища, переданного несколько лет назад Музею восточных культур, оказались ящики, неизвестно кем присланные из Термеза примерно в 1904 году и заключавшие в себе несколько обточенных водой и обветренных фрагментов резного алебастрового штука явно подъемного происхождения.
В течение нескольких лет о развалинах Термеза в печати не появлялись ни сколько-нибудь подробные описания, ни хотя бы краткие, но новые или более точные наблюдения и сведения [18]. В этом отношении исключение составляет поездка ботаника Р. Ю. Рожевица, который в 1906 году случайно, в ожидании парохода, задержался в Патта-Кесаре на шесть дней и побывал за это время на городище.
Одной из особенностей основания музея в Сурхандарье стало то, что после оккупации Термеза по договору между Российской империей и Бухарским эмиратом от 15 января 1893 года, вдоль Амударьи — от Карки до Термеза, были установлены проволочные заграждения соседними с Паттакесаром пограничными военными частями. В ходе этих работ было обнаружено множество уникальных исторических предметов, которые начали собирать в двух комнатах офицерского дома Термезской пограничной бригады. Эти предметы относились к областям минералогии, ботаники, археологии, нумизматики и этнографии. Позже на базе Термезского военного училища имени Строганова был создан музей, функционировавший до 1917 года.
Экспонаты, относящиеся к истории Старого Термеза, в 1904 году были перевезены в Музей восточных культур в Москве. Среди них находились ценные артефакты, относящиеся к греко-бактрийской и кушанской культурам.
В 1911 году в петербургских ученых кругах одно время намечалось определенное оживление интереса к Старому Термезу. В первом выпуске XX тома ЗВО помещается зачитанная еще за два года до того пробная лекция А. Сталь Гольстей на на тему о путешествии Сюань-цза- на и результатах археологических исследований. В этой лекции, приводя сведения этого путешественника о столице Та-ми и сопоставляя эти данные с описанными у И. Т. Пославского устоями на берегу реки у цитадели, А. Сталь Гольстейн высказал мысль, что они могут являться остатками ступа и что вообще показания китайского
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №7 2025 паломника приведут к открытию в Термезском районе памятников буддийской древности [19].
В мае 1912 года правление ТКЛА обращалось к начальнику инженеров Туркестанского военного округа с письменной просьбой, чтобы обнаруженные при казенных земляных работах на площади городища Термез археологические находки были доставляемы в Ташкент для помещения в Музей. Может быть результатом этого обращения явилась присылка небольшого числа фрагментов керамики и нескольких кусков резного алебастрового штука, поступивших из Термеза неизвестно от кого и хранившихся в Ташкентском музее примерно с этого времени. С другой стороны, эти объекты могли быть получены и от З. З. Виноградова, производившего будто бы любительские раскопки в Термезе в 1913 году. Деятельность последнего установлена Г. В. Парфеновым на основании опросных сведений среди местных старожил.
В 1913 году в Термезе по служебно-административным делам вторично пришлось побывать А. А. Семёнову, который вновь посетил группу мавзолеев Султан Садат, приобрел от шейхов рукопись, заключавшую в себе, между прочим, составленную в 1637 году, генеалогию термезских сейидов и постарался досмотреть некоторые развалины из числа оставшихся не посещёнными при первом приезде. Главное внимание он уделил усыпальницам термезских сейидов.
Здесь А. А. Семенов отметил, что замыкающий двор портал под более поздней сплошной изразцовой облицовкой несет первоначальную разделку из парных кирпичей, положенных ложком, прерывающихся в шахматном порядке звездами зелено-голубой поливы. Салаватские хаджи к этому времени свели над мечетью купол из старых кирпичей, почистили мусор и вообще от себя завели «некоторый порядок». Однако налицо были и явные признаки дальнейшего разрушения. Так, на упомянутом портале уже почти не оставалось не только частей надписей, но и вообще изразцовой одежды [20]. Ни описания этого комплексного памятника, ни каких-либо датировок его отдельных зданий А. А. Семенов не дал. Тем не менее, сделанный им 11 декабря того же года в ТКЛА доклад о своей поездке вызвал в следующем 1914 году еще одну и последнюю за дореволюционное время попытку изучения Термеза [21].
Инициатива исходила от ТКЛА, а Русский комитет для изучения Средней и Восточной Азии собирался поддержать это начинание ассигнованием 400 р. Предполагалось, что предварительным обследованием будет охвачен весь треугольник между Аму-Дарьей и Сурханом, а также остров Арал Пайгамбар. Оно должно было сопровождаться нанесением на одноверстную карту археологических объектов, составлением частных планов с отдельных развалин, фотофиксацией и зарисовкой памятников. Исполнителем этого задания-соглашался быть член ТКЛА топограф Н. И. Нехорошев, предполагавший посвятить ему свой отпуск в октябре и ноябре. Начавшаяся в июле мировая империалистическая война сорвала это начинание [22].
В 1916 году пребывавший в Термезе инженер Эпель сообщил письмом Н. П. Остроумову, что он хотел бы безвозмездно передать в Музей ТКЛА найденный в приамударьинской группе развалин среди обломков древнего кирпича, из которого лет около десяти назад сделано термезское шоссе, жженый кирпич размерами 6x5, 5x1 в3, покрытый с одной стороны вытесненными надписями. Судя по приложенному к письму фотоотпечатку, этот объект идентичен с тем долгое время беспаспортным кирпичем, который хранился затем в археологическом отделе Главного среднеазиатского музея.
В 1916 году, работавший на месте над вопросом водопользования Ширабадской и Сурханской долин С. К. Кондрашев, не касаясь совершенно самого городища, не мог не затронуть по ходу своих исследований попутно ирригационной проблемы в древности и пришел к заключению, что вопрос орошения старого Термеза остается неясным.
В дореволюционное время этим заканчивалось в сущности развитие исследования городища Старого Термеза, которое в западной части своей амударьинской группы развалин в течение нескольких лет использовалось термезским царским гарнизоном под летний военный лагерь. Планировка укрепления и нового городка Патта-Кесар, строительство зданий, проведение арыков, военно-учебные и прочие земляные работы, наконец, постепенная денудация культурных археологических слоев под влиянием естественных факторов, все вместе взятое ежегодно приводило к обнажению на огромной площади термезских развалин большого числа разнообразных предметов древности. Значительная часть их утрачивалась, но кое что, в в первую очередь монеты, привлекали внимание частных коллекционеров, в большинстве из наезжих чиновников, служащих и др. и обычно имевших в виду дальнейшие коммерческие цели по части выгодной реализации “антиков”. Скупка их у местного населения породила спекуляцию и принимала иногда отвратительные формы наглого обмана. Крупного антикварного рынка в Термезе не сложилось, но там всегда можно было кое у кого приобрести “старинные веши”, которые для придания им большего интереса продавцами иногда выдавались за найденные по ту сторону Аму-Дарьи в пределах Афганистана. Монеты, геммы, терракотовая скульптура и различные предметы археологической утвари из Термеза частично поступили в собрания И. Т. Пославского [23] и Б. Н. Кастальского [Б. Н. Кастальскому в Термезе, между прочим, удалось в свое время купить терракотовую плиту-кирпич с рельефным изображением мужской фигуры с палицей, которую он условно назвал бактрийским Геркулесом. Довольно крупная нумизматическая и отчасти археологическая коллекция имелась у термезского старожила, служителя культа Зампаева (Незначительная часть монет из коллекции 3ампаева в количестве около 500 экз. в 1927 году была приобретена у его наследников нумизматическим отделом бывшего Главного среднеазиатского музея. Основное ядро коллекции было до того вывезено из пределов Средней Азии). Немало древних монет, вывез из Термеза в 1911 году английский путешественник Делари (В заметке с несомненным преувеличением говорится о вывозе Делари «громадного количества» греческих монет. Содержание ее обличает в авторе мало компетентное лицо. Так, он считал нумизматические каталоги Британского музея идентичными каталогамценникам торговых нумизматических фирм) [24]. Значительно большее количество их было выкачано постепенно из года в год наезжавшими тренерами, привозившими в Среднюю Азию из заграницы грену шелковичных бабочек и экспортировавшими попутно в Западную Европу разные «антики». Как выяснил Г. В. Парфенов, в последние годы перед революцией при штабе пограничной бригады в Патта-Кесаре был учрежден небольшой музей, где предполагалось концентрировать наряду с прочими предметами и археологические объекты. Однако развития этот музейчик не получил, и судьба его коллекций неизвестна.
Переходя к итогам всего сделанного в дореволюционный период в отношении городища Старого Термеза, прежде всего следует отметить, что необходимость его изучения и, особенно, охраны памятников от хищнического разрушения осознавалась многими частными лицами. Однако обстоятельства сложились так, что фактически никакой реальной охраны не существовало.
В Средней Азии в годы реакции, последовавшие за революцией 1905 года, в административно-колонизаторском аппарате сформировалась новая точка зрения на памятники местной старины - их стали воспринимать как немых носителей «нежелательной идеологии» среди коренного населения. При таком подходе речь шла не о ремонте и реставрации, а о как можно более быстром уничтожении этих памятников, что считалось соответствующим интересам российской государственности [25].
В последней нельзя привести ни одной экспедиции исключительно со специальными археологическими целями ни одной правильной археологической раскопки, ни одного сколько-нибудь рационально организованного вскрытия, шурфования и даже просто археологического надзора хотя бы за такими крупными работами, как постройка крепости, ирригационное строительство или проведение железной дороги. Единичные скромные по размерам ассигнований мероприятия по изучению Термеза, намечавшиеся научными организациями Петербурга и Ташкента, не могли быть проведены в жизнь из-за недостатка кадров. И в сущности, до 1917 года имело место не столько изучение городища и его памятников, сколько фиксирование о них некоторых фактов и сведений, из которых при этом относящиеся к эпохе до 1905 года в своей совокупности качественно в смысле точности отражения действительности выше последующих. Самый сбор сведений характеризуется случайностью, попятнистее, мимолетностью и малой подготовленностью для этой цели лиц, принадлежавших в основной массе к служилому люду: офицеры, топографы, чиновники, изредка исследователи неархеологической специальности. Отрицательно сказывалось, кроме того, незнание в большинстве случаев местных языков и кратковременность пребывания на городище. Нет надобности, пожалуй, особо подчеркивать отсутствие плановости, последовательности или системы в этом стихийном, проходившем самотеком накоплении данных о старом Термезе. Никто не руководил их сбором, они нигде даже не регистрировались, часто не становились достоянием науки. Сплошь и рядом посещавшие и описывавшие Старый Термез не знали своих предшественников. Кроме того, накопленный все же не малый количественно материал, далеко не всегда доброкачествен как с точки зрения фактического отображения или обработки, так, особенно, с точки зрения теоретического освещения. Многое носит яркий отпечаток идеологии колонизаторской буржуазии и русского шовинизма, иногда завуалированных изящным стилем писателя Н. Н. Каразина, иногда откровенно звучащий в заметках более примитивного сапера Валентина Р. Монархически-реакционное и клерикальное направление, свойственное дореволюционной московской археологической школе, нашло отражение в выборе объекта исследования, его описании и трактовке у одного из членов ТКЛА. Считая наиболее интересным памятником среди развалин городища, не говоря о «саркофаге» Хакими Термези, усыпальницу членов духовной династии термезских сейидов, он в руинах мавзолеев усматривал скорее «дворец, чем дом смерти», свидетельствовавший, «о былой счастливой жизни и минувшем могуществе в этих местах» [26]. Чаще проскальзывает отзвук расистской теории, положенной в основу программы деятельности ТКЛА при его основании в 1895 году и-совершенно четко прозвучавшей тогда в торжественной речи туркестанского генерал-губернатора А. Б. Вревского [27].
Из-за низкого уровня научных знаний об археологических памятниках Средней Азии в дореволюционный период даже существующие объекты не были достаточно изучены, а попытки выявить на их основе исторические закономерности практически отсутствовали. Учет всей этой обстановки делает совершенно понятным беспомощность старой буржуазной русской археологии при использовании хотя бы тех исторических материалов о Термезе, которые были выявлены академиком В. В. Бартольдом в результате многолетних работ над первоисточниками.
Проведённое исследование позволило выявить основные этапы становления археологических и музейных инициатив в Старом Термезе в контексте расширения влияния Российской империи на территории Восточной Бухары. Установлено, что первые фиксации
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №7 2025 памятников, сбор артефактов и организация выставок носили преимущественно военноадминистративный характер, однако уже к началу XX века начали приобретать научную направленность. Важную роль в изучении Старого Термеза сыграли экспедиции, организованные при участии Туркестанского отдела Императорского Русского географического общества. Их участники заложили основы для систематического изучения региона и способствовали формированию музейных коллекций. Одновременно выявлены противоречия между научными целями исследователей и практиками вывозa артефактов в метрополию, что отражало колониальный характер культурной политики того времени. Историографический анализ позволил дифференцировать вклад отдельных исследователей и определить степень объективности их подходов. Установлено, что значительная часть музейных экспонатов из Старого Термеза до сих пор хранится за пределами региона, что ставит вопрос о доступности культурного наследия для локального сообщества.
Таким образом, ранняя история археологии и музееведения в Старом Термезе демонстрирует тесную взаимосвязь между научным интересом, имперской администрацией и формированием музейных практик, что требует дальнейшего комплексного изучения как в контексте истории науки, так и с позиций постколониального анализа.