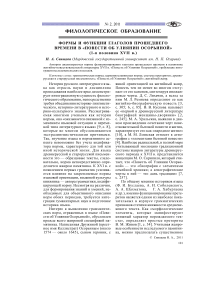Формы и функции глаголов прошедшего времени в «Повести об Улиянии Осорьиной» (1-я половина XVII в.)
Автор: Свищева Наталья Александровна
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Филологическое образование
Статья в выпуске: 2 (63), 2011 года.
Бесплатный доступ
Автором анализируются нормы функционирования глаголов прошедшего времени в памятнике житийно-повествовательной литературы XVII в. «Повесть об Улиянии Осорьиной», требующие интеграции исследовательских подходов.
Грамматическая норма, церковнославянская норма, система претеритов, древнерусская и старорусская письменность, "повесть об улиянии осорьиной", житийный жанр
Короткий адрес: https://sciup.org/147136743
IDR: 147136743
Текст научной статьи Формы и функции глаголов прошедшего времени в «Повести об Улиянии Осорьиной» (1-я половина XVII в.)
История русского литературного языка как отрасль науки и дисциплина преподавания наиболее ярко демонстрирует интеграционную сущность филологического образования, непосредственно требуя объединения историко-лингвистического, историко-литературного и историко-культурного знания. Рассматриваемая многими учеными как история нормы, она «оказывается связанной с изменением языковой ситуации и переменой типа литературного языка» [9, с. 8], которые во многом обусловливаются экстралингвистическими причинами. Так, изучение языка в нормативном аспекте невозможно без учета кодификатора нормы, характерного для той или иной исторической эпохи. Для языка древнерусской и старорусской письменности это — образцовые тексты, следовательно, норма непосредственно определяется жанром памятника. К XVI в. с появлением первых грамматик усиливается влияние на закрепляемые нормы языковой ориентации, языковой культуры книжника — автора грамматики, кодифицирующей норму. Несмотря на различия, для формирования знаний и умений, необходимых для объективного описания норм обоих периодов, требуется интеграция гуманитарных наук в подготовке историка языка.
Интерес к выявлению грамматических норм, отраженных в языке «Повести об Улиянии Осорьиной», обусловлен прежде всего жанровой спецификой памятника. Написанная Дружиной (крестное имя Каллистрат) Осорьиным (около 1574 — около 1645), сыном героини, с явной ориентацией на житийный жанр, Повесть тем не менее во многом отступает от его канонов, синтезируя иножанровые черты. Д. С. Лихачев, а вслед за ним М. Л. Ремнева определяют ее как житийно-биографическую повесть [3, с. 305; 6, с. 85]. В. В. Кускова называет ее «первой в древнерусской литературе биографией женщины-дворянки» [2, с. 245]. М. А. Уральская, выявляя в данном произведении сочетание черт повествовательной бытовой повести и жития, характеризует его как «народное житие» [10], а М. М. Лоевская относит к агиографии с «элементами бытовой повести» [4]. Наиболее радикальной, в полной мере учитывающей эволюцию традиционной системы жанров литературы древнерусского периода к XVII в. представляется концепция М. О. Скрипиля, который считает, что «Повесть об Улиянии Осорьиной» — это «биография с элементами семейной хроники; а агиографические черты в ней — это дань традиции» [7, с. 257].
По общему мнению историков языка (Ф. И. Буслаева, А. И. Соболевского, А. А. Шахматова, Г. А. Хабургаева и др.), именно функционирование претеритов является одним из наиболее показательных в корпусе грамматических признаков степени книжности средневекового текста. Как «морфологические элементы, которые манифестируют книжный характер порождаемого текста», определяет простые претериты В. М. Живов [1, с. 34]. Учитывая жанровые особенности исследуемого памятника, можно предполагать существенное
колебание в нем церковнославянской нормы, характерной для житийного жанра, находящегося, по определению Н. И. Толстого, в одном из верхних ярусов иерархии древнерусских жанров [8].
Система претеритов в «Повести об Улиянии Осорьиной» представлена 312 формами. Наиболее употребительны аорист (170 форм, 54,5 %) и имперфект (141 форма, 45,2 %). В единственной форме 2 л. ед. ч. употреблен присвязоч-ный перфект (0,3 %): Она... рече: « Соблазнился еси , егда о себе глаголеши; кто есмь аз грешница, да буду достойна сего нарицания» [5, с. 281] (Она... сказала: «Ты ошибся, когда о себе говоришь; я — грешница и так должна именоваться»).
Парадигма аориста включает формы 1 л. ед. (8) и мн. ч. (7), 2 л. ед. ч. (1), 3 л. ед. (128), дв. (4) и мн. ч. (22), например: Прирече же и се: «Желанием возже-лах ангельскаго образа иноческого, не снодобихся грех моих ради и нищеты, понеже недостойна бых » [с. 283] (Добавила же и это: «Всей душой возжелала я принять ангелоподобный иноческий сан, но не сподобилась из-за грехов моих и нищеты, поскольку недостойна была»); Они же новедаша : «Многи села обхо-дихом и чист хлеб вземлем, а тако в сладость не ядохом , яко сладок хлеб вдовы сея» [с. 282] (Они же рассказали: «Много сел мы обошли, и хороший хлеб нам подавали, а такого вкусного не ели, как вкусен хлеб этой вдовы»). В нее входят и формы односложных глаголов 3 л. ед. ч. со вторичным окончанием -тъ , церковнославянским по нормативной характеристике, например: ноят [с. 276]; внят [с. 280].
Наряду с формой аориста 3 л. ед. ч. бысть, образованной от основы инфинитива быти, в Повести используется форма бе, образованная от основы имперфекта, например: И оттоле боле под-визася к богу, ходя к церкви, по вся вечеры моляшеся богу во отходной храмине; бе же ту икона богородицы-на и святаго Николы. Во един же вечер вниде в ню по обычаю на молитву, и абие быстъ храмина полна бесов со всяким оружием, хотяху убити ю»
[с. 281] (И с того времени еще сильнее обратилась к богу, ходя в церковь, каждый вечер молилась в отходном храме; была тут икона Богородицы и святого Николы. Однажды вечером вошла в нее как обычно на молитву, и вновь был храм полон бесов со всяким оружием, хотели убить ее). Отметим, что данные формы могут употребляться недифференцированно в одном и том же контексте.
Парадигма имперфекта включает формы 1 л. ед. (3) и мн. ч. (2), 3 л. ед. (109), дв. (2) и мн. ч. (25), например: Мы же сего не смеяхом писати, яко не бе свидетельства [с. 284] (Мы же об этом не можем писать, поскольку нет свидетельства); И живяста (Иустин и Стефанида. — Н. С.) во всяком благоверии и чистое и имяста сыны и дщери и много богатства, и раб множество [с. 276] (И жили во всяком благоверии и чистоте, и имели сыновей и дочерей, и много богатства, и рабов множество); Она же от свекрови пищу приимая, сама не ядяше , гладным все раздая-ше [с. 279] (Она же, от свекрови пищу принимая, сама не ела, голодающим все раздавала); По мале же мор бысть на люди силен, и мнози умираху пострелом, и оттого мнози в домех занира-хуся и уязвенных пострелом в дом не нущаху , и ризам не нрикасахуся [с. 279] (Вскоре случился сильный мор, и многие люди умирали от оспы, и оттого многие в домах запирались, и больных в дом не пускали, и к их одеждам не прикасались).
Несмотря на «сильную» позицию простых претеритов, выявляются «колебания» в формообразовании и реализации функций.
Варианты формообразования, указывающие на книжный характер нормы, которая противостоит живой речи, связаны со следующими процессами в пре-теритальной парадигме:
— нарушение норм формообразования дуалиса, проявляющееся в употреблении в контекстах двойственности форм мн. ч.: Егда же достиже шестаго на десять лета, вдана бысть мужу доб-родетелну и богату, именем Георгию, пореклом Осорьину, и венчани быша
(вместо венчана быста') от сущаго ту нона, Потания именем [с. 277] (Когда ей исполнилось шестнадцать лет, была отдана замуж за добродетельного и богатого человека по имени Георгий Осо-рьин, и были обвенчаны здешним попом по имени Потапий); а также форм дв. ч. вместо требуемого контекстом ед., например: Егда бо и ночиваше, уста ея движастася и утроба ея подвизаста-ся ( вместо нодвизася) на славословие божие [с. 281] (Даже когда она спала, уста ее двигались и дыхание воздымалось на восхваление бога), — вероятно, под влиянием находящегося рядом свободного двойственного числа уста дви-жастася ;
— употребление имперфекта, образованного от основы совершенного вида, в контексте многократности, что подчеркнуто лексически (не точию в день, но и в нощь): Свекры же, се слышав, рада бысть, и послаше (вместо посылаше ) ей пищу доволну не точию в день, но и в нощь: бе бо у них в дому всего обильно, хлеба и всех потреб [с. 278] (Свекровь же, слышав это, рада была и послала ей достаточно пищи не только днем, но и ночью благодаря тому, что у них в доме всегда было в изобилии хлеба и других продуктов);
— смешение форм претеритов и причастий, возникающее как результат контаминации окончания 2—3 л. ед. ч. имперфекта и суффикса действительных причастий настоящего времени, а также совпадения форм аориста 2—3 л. ед.ч. с окончанием -тъ и Им. п. ед. ч. м. р. страдательных причастий. Отметим, что часто контекст не позволяет четко дифференцировать формы претерита и причастия, допуская различные семантикосинтаксические связи их в предложениях (возможно рассмотрение форм внят и рече, поят и воснитающе как однородных членов предложения), например: Она же тяжко вся то внят, еже он новеда нред многими, и рече: «Соблазнился еси, егда о себе глаголеши» [с. 280] (Она же с трудом все то выслушала, что он рассказал многим, и сказала: «Ты ошибся, когда о себе говоришь»); Бывши же ей шести лет, и умре мати ея, и поят ю в нределы муромские баба ея, „.и воснитающе ю во всяком благоверии и чистоте шесть лет [с. 276] (Когда ей было шесть лет, умерла ее мать, и ее забрала в муромские земли бабушка ее... воспитывавшая ее в благоверии и чистоте шесть лет).
В данном контексте особое значение приобретает наблюдение Б. А. Успенского: в поздних текстах (XVII в.) широко распространено употребление причастий в функции личных форм, что «воспринимается, по-видимому, как разновидность нормы, допустимая в определенных жанрах книжной письменности» [9, с. 224—225].
Интерес представляет употребление имперфекта: Бес же бежа от нея, во-пияше : «Многу беду ныне нриях тебе ради» [с. 281] (Бес же, бежав от нее, кричал: «Много бед сегодня принял из-за тебя»), — но возможно и причастие вонияще, если рассматривать форму бежа как аорист. Лишь привлечение большего контекста с аналогичной синтаксической конструкцией Бес же нла-ча вонияше [с. 281] позволяет говорить о причастной форме бежа.
В Повести отражается и процесс де-семантизации — утраты исконных грамматических значений — форм претерита, проявляющийся, в следующем:
— во-первых, в использовании аориста в перфектном значении, на исконность которого указывают формы настоящего или будущего времени, а также формы императива, актуализирующие результаты действия, выражаемого претеритом (что характеризует перфектную семантику), например: Свекры же глагола ей: «Како ты нрав свой нереме-ни, егда бе хлебу изобилие, тогда не могох тя к раннему и нолуденному ядению нринудити, а ныне, егда оскуднение нищи, и ты раннее и нолъдневное ядение взимаешь». Она же, хотя утаитися, отвеща ей: «егда не родих детей, не хотяше ми ся ясти, и егда начах дети родити, обезсилих (вместо обезсилела есмь, поскольку и в момент речи пребывает в таком состоянии, на что указывает следующая за аористом презенсная форма), и не могу наястися» [с. 279]; (Свекровь же сказала ей: «Как ты нрав свой переменила, когда хлеба было в изобилии, тогда не могла я тебя заставить ни завтракать, ни обедать, а сейчас, когда оскуднение пищи, ты и завтрак, и обед берешь». Она же, скрыв, ответила ей: «Пока не родила детей, не хотела есть, а когда начала детей рожать — обессилела и не могу наесться»);
— во-вторых, в употреблении аориста в имперфектном значении, например: многажды видехом ю спящу, а рука ея четки отдвигаше [с. 281] (Я много раз видел ее спящую, а рука ее четки перебирала), — аорист вместо имперфекта видяхом, поскольку многократность совершаемого действия обозначена лексически наречием многажды, а также формой имперфекта отдвигаше, указывающей на многократность наблюдаемого говорящим действия. Егда же прибли-жися честное ея преставление, и раз-болеся декабря в 26-й день, и лежа (вместо лежаше) 6 дней. В день лежа моляшеся, а в нощи воставая моляше-ся богу, особь стояще, никим подъдер-жима» [с. 282] (Когда же приблизилось достойное преставление ее, разболелась 26 декабря и лежала 6 дней. Днем молилась лежа, а ночью, вставая, молилась богу, самостоятельно стоя, никем не поддерживаемая). В данном контексте длительность действия, характерная для имперфектной семантики, также выражена лексически: 6 дней, однако использование аориста лежа может объясняться и влиянием последующего контекста с омонимичной формой причастия. И повеле оставшим рабом соби-рати лебеду и кору древяную, и в том хлеб сотворити, и от того сама с детьми питашеся, и молитвою ея быстъ (вместо бяше) хлеб сладок [с. 282] (И приказала оставшимся рабам собирать лебеду и кору и печь из этого хлеб, и со своими детьми питалась им, и благодаря ее молитве был хлеб сладок), — здесь возможна интерпретация семантики глагола как многократно повторяемого проявления качества хлеба, которая может быть подкреплена формой имперфекта питашеся (всякий раз, когда ели, он был сладок), или как постоянного признака, приобретенного с момента молитвы.
Однако количество отступлений от традиционных норм функционирования глаголов прошедшего времени в исследуемом источнике невелико. Поэтому, учитывая мнение Б. А. Успенского о том, что смешение форм аориста и имперфекта, смешение аориста и имперфекта с причастиями, смешение аориста с перфектом в XVII в. «были адаптированы книжной нормой» [9, с. 220], можно сделать вывод о функционировании в «Повести об Улиянии Осорьиной» системы претеритов, ориентированной на церковнославянскую норму.
СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
-
1. Живов, В. М. Очерки исторической морфологии русского языка XVII—XVIII вв. / В. М. Живов. — М. : Языки славянской культуры, 2004. — 655 с.
-
2. История русской литературы X—XVII веков / под ред. Д. С. Лихачева. — М. : Просвещение, 1980. — 462 с.
-
3. Кусков, В. В. История древнерусской литературы / В. В. Кусков. — 8-е изд. — М. : Высш. шк., 2006. — 336 с.
-
4. Лоевская, М. М. Трансформация агиографического жанра в старообрядческих житиях XVII в. [Электронный ресурс] / М. М. Лоевская. — Режим доступа: http://krotov.info/history/ 17/staroobr/loevskay.htm.
-
5. Повесть об Улиянии Осорьиной // Тр. Отдела древнерусской литературы. — М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1948. — С. 276—284. Ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием номера страницы.
-
6. Ремнева, М. Л. Литературный язык Древней Руси: Некоторые особенности грамматической нормы / М. Л. Ремнева. — М. : Изд-во МГУ, 1988. — 141 с.
-
7. Скрипиль, М. О. Повесть об Улиянии Осорьиной: (исторические комментарии и тексты) / М. О. Скрипиль // Тр. Отдела древнерусской литературы. — М. ; Л., 1948. — С. 256—276.
-
8. Толстой, Н. И. История и структура славянских литературных языков / Н. И. Толстой. — М. : Наука, 1988. — 239 с.
-
9. Уральская, М. А. Древнерусские жития: памятники, герои, эволюция [Электронный ресурс] / М. А. Уральская. — Режим доступа: http://www.proza.ru/2010/04/07/47 .
-
10. Успенский, Б. А. История русского литературного языка (XI—XVII вв.) / Б. А. Успенский. — 3-е изд. — М. : Аспект Пресс, 2002. — 558 с.
Поступила 07.12.10.