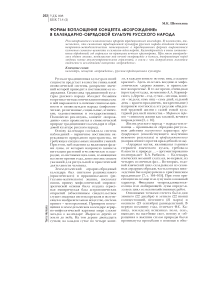Формы воплощения концепта «Возрождение» в календарно-обрядовой культуре русского народа
Автор: Шемякина Мария Константиновна
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Ценностный опыт
Статья в выпуске: 4 (25), 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается символическая природа традиционного календаря. В частности, отмечается, что символика традиционной культуры русского народа обладает большим теоретико-методологическим потенциалом: в традиционных формах выражаются ключевые символы-ценности и символы-идеи народа. Календарный (и в этом соответствии обрядовый) год строился по принципу вечного круговорота. При этом утверждалось единое знание, понимаемое как вечное возвращение к началу, открывающее перед людьми новые жизнеустроительные горизонты, в связи с чем актуальным является выделение и исследование концепта «возрождение»
Календарь, концепт "возрождение", русская традиционная культура
Короткий адрес: https://sciup.org/14031410
IDR: 14031410 | УДК: 008
Текст научной статьи Формы воплощения концепта «Возрождение» в календарно-обрядовой культуре русского народа
Terra Humana
Русская традиционная культура в своей сущности предстает в качестве уникальной символической системы, раскрытие значений которой приводит к постижению ее содержания. Символика традиционной культуры русского народа обладает большим теоретико-методологическим потенциалом: в ней выражаются ключевые символы-ценности и символы-идеи народа (мифологические, религиозные, социальные, этнические, художественные и государственные). Полновесно реализуясь, концепт «возрождение» емко проявляется в символической природе традиционного календаря и обрядовой культуре русского народа.
Основу календаря составляла система наблюдений – первичное постижение окружающего природного пространства, не требующее специальных знаний и умений. При этом, наблюдения за видимыми фазами луны, от которых напрямую зависела вегетация растений и человеческое плодородие, солнечными циклами, влияющими на смену времен года, дополнялись сводом указаний для ритуальной и практической деятельности человека.
Земледельческий аграрно-обрядовый календарь был синтезом рационального (практического) и иррационального (ритуально-магического) знания, поскольку сквозь призму мифологической мировоззренческой основы была создана серьезная эмпирическая база астрономических открытий (объективным свидетельством служит знаковая система кружков и полумесяцев в изобразительном искусстве, система примет – метеорология). Примером воплощения в земледельческом календаре аграрно-мифологической картины мира служит загадка о календаре: «Выросло дерево от земли до неба. На том дереве двенадцать сучков; на каждом сучке по четыре коше- ля, в каждом кошеле по семь яиц, а седьмое красное!». Здесь сплелись воедино и мифологическое «дерево жизни», и православное воскресенье. В то же время, очевидная (простая) отгадка, по мнению А.А. Коринфского, («Дерево – год, сучки – месяцы, кошели – недели, семь яиц – семь дней, седьмой день – красен-праздничек, воскресеньице») напрямую соотносила эту реалию обыденной трудовой жизни с самой емкой культурной реалией язычества – Мировым деревом – символом жизни как таковой, вечного возрождения [5, с. 16].
Жизнь русского народа – народа-землепашца – пронизывали обрядово-ритуальные действия магического характера: продуцирующего (способствующего получению искомого результата) и профилактического (направленного против враждебной силы).
«Аграрная магия, являвшаяся главным стержнем языческого культа, требовала близости к природе … – аргументированно подтверждает Б.А. Рыбаков. – Календарь языческих молений слагался, во-первых, из четырех солнечных фаз… Во-вторых, годовой языческий цикл складывался из сезонных аграрных обрядов, часть которых впоследствии была приурочена к христианским праздникам» [7, с. 164–165 ] . При этом ориентация на солнце или луну носила важный характер. Фиксация «возрождающегося» солнца или «набирающей» луны определяла весь цикл сельскохозяйственных работ.
Основными точками отсчета были дни зимнего (22 декабря) и летнего (22 июня) солнцестояний, весеннего (21 марта) и осеннего (23 сентября) равноденствий. В первую половину года, отмечает Ф.С. Капица, земледелец вспахивал поля, сеял, выводил на пастбище скот, потому и «обращения к высшим силам природы были проникнуты просьбами о помощи в обес- печении будущего урожая». Вторую (время сенокоса, жатвы, обмолота и обработки собранного урожая) – «благодарил природу за помощь» [4, с. 7].
Деревенские обряды, игры и хороводные песни, основанные на первобытном знании как профилактическом, так и продуцирующем, позже сосредоточились вокруг христианских праздников: Рождества Христова, Васильева дня, Крещения, Пасхи, Фоминой недели, Троицы, Юрьева дня (св. Георгия), Николина дня (Николая-чудотворца), Ивана Купалы (Иванова дня, Иоанна-Крестителя), Ильи-пророка, Покрова Богородицы, Козьмы и Демьяна .
Земледельческий календарь стал полноценным воплощением концепта «возрождение». Он не только персонифицировал природу мифа, но и отражал имевшиеся представления о времени первородном и времени обновления – возрождения сил природы, которые, по сути, и послужили началом его практической (эмпирической) заданности. Само восприятие времени пахарем было основано на ежегодной повторяемости явлений природы, соответствовавших круговороту солнца. Потому и циклический принцип развертывания времени (с равно-положенностью прошлого, настоящего и будущего) приобретал в земледельческом календаре универсальную форму.
Земледельческий календарь предполагал не только соотнесение, но и уподобление жизни земледельца в его социальноаграрной направленности природному миру в его вечно возрождающейся динамике: начальной активности (подготовка), трудовой активности (получение результата (урожая), периоду ожидания (окончание полевых работ). При этом сезонное деление календарных праздников и обрядов непосредственно зависело от природно-климатических условий проживания, цикличности сельскохозяйственных работ и повседневной жизни земледельцев.
Рассмотрение календарных обрядов с учетом земледельческих работ, определивших их характер и особенности, позволило ряду исследователей выделить два варианта: а) обряды, вызывающие урожай, б) обряды, сопровождающие получение урожая. Временные рамки этих циклов определялись периодом созревания хлебов и овощей.
Обрядовые циклы начинались в конце предшествующего месяца и заканчивались в первой половине следующего месяца. Исключение составляли даты, связанные с передвижным характером весенних праздников, зависевших от первого весеннего новолуния. Считающаяся главным празд- ником весны Пасха не имеет постоянного числа, справляется в разные дни (примерно от 22 марта до 25 апреля). От празднования Пасхи зависят Масленица, Вознесение, русальная неделя, Троица и Духов день. Эти
«скользящие» праздники, сопровождавшиеся многочисленными обрядами, приходятся на конец января–февраль (Масленица, 8-я неделя до Пасхи), конец марта–апрель (Пасха), май–июнь (Вознесенье – 40-й день после Пасхи; русальная или семицкая недели – 7-я после Пасхи; Троица и Духов день – 50-й и 51-й дни после Пасхи).
Соположенными (зеркально отражающими друг друга) мыслились в сознании нашего предка времена года. Зима симмет- рична лету, осень – весне, что выразилось в сходной последовательности более или менее «отмеченных» дней и зафиксируется в многочисленных пословицах, приметах, загадках, сравнивающих времена года. «В земледельческом календаре, – отмечает А.К. Байбурин, – все составные части увязаны: одно время года определяется по другому, а каждый месяц составляет пару с противоположным ему месяцем второго полугодия» [2, с. 11]. Последнее наблюдение, отмеченное ученым, выразилось в целой системе привязанных к определенным дням и сезонам примет и поверий. Обычно они представляли собой выражения типа «если... то...», например: «много снегу – много хлебу»; «вода разольется – сена наберется».
Повторение, основанное на символике возрождения, тех или иных природных состояний служило предпосылкой появления так называемых варьированных повторений дней. Фиксацию этого, как отмечает ряд этнографов, находим в традиционном народном календаре. Например, рождественским Святкам соответствовали так называемые Зеленые – летние (приходившиеся на конец июня) или весенние (Троицкие) обряды (И.П. Сахаров). Дублирование дней, по мнению И.П. Сахарова, образует костяк календаря и календарной обрядности, выражаемый в подробностях действа, соответствующего мертвенному или плодородящему состоянию природы [8].
Большую степень повторения обретали игры, подчеркивает И.П. Сахаров, соотносимые с ряженьем, зажжением костров, купанием и т.д. Отклонение в повторяемости этих игр наблюдается в осенние месяцы, когда на первый план выдвигаются обряды, связанные с уборкой урожая. По существу, характер и целеустремленность игр октября-июля едина: они только варьируются применительно к той обстановке, в которой совершаются.
Общество
Terra Humana
Символика календарного обряда зачастую (если праздник не приходился на время поста) также характеризовалась использованием одних и тех же атрибутов и действий: обходом дворов, персонификацией праздника в песнях и ритуальных действиях с куклами (образы Коляды, Масленицы, Купалы), использованием природных украшений (трава, ветви деревьев, украшенные лентами ветки и т.д.), употреблением определенных видов пищи (кутья, блины, крашеные яйца, печенья «козули», «жаворонки»), почитанием предков.
Праздники включали целые ритуальные комплексы. Ф.С. Капица описывая масленичный обряд отмечает, что с каждым днем масленичной недели (встреча, заигрыш, лакомка, разгул, тещины вечерки, золовкины посиделки, прощеное воскресенье) связан свой комплекс обычаев и ритуальных действий. В этот день бытовал обычай «возить дерево»: сухое дерево (березу или ольху), спиливали и укрепляли на санях, украшали лентами, лоскутами, бубенчиками и провозили его вдоль деревни. Иногда вместо дерева клали колесо [4, с. 157].
Во время масленичной недели совершали обряды поминовения и продуцирующие обряды. Обряды поминовения ярко иллюстрировали первый и последний день Масленицы: первый блин первого дня не ели, отдавали нищим на помин души (этнографы связывают этот обычай с культом усопших), в последний день – воскресенье (целовник, Прощеный день) полагалось не только просить прощения друг у друга, но и сходить на кладбище, попрощаться с умершими. [4, с.159].
Обряды встречи весны приурочивали к Благовещенью. Утром молодежь поднималась на крыши или забиралась на возвышенности (бани, верхушки скирд или поленницы) и начинала «гукать», призывать весну. Но поскольку праздник приходился на время Великого поста, с ним не связывались пиршества и людные гуляния. В этот день происходило специальное освящение просфор в церкви (потом ее могли класть в сетево, брать с собой в поле, скармливать домашнему скоту). В праздник выпускали на волю птиц, произнося приговор:
Синички-сестрички, Вы по воле полетайте, Вы на вольной поживите, К нам весну скорей ведите.
На праздник также распространялось запрещение работать на земле и ездить в лес. В этот день совершали очистительные обряды: били в металлическую посуду, зво- нили в колокольцы, сжигали солому и всякое старье, совершали ритуал освящения зерна – освещение иконой с изображением Благовещенья и произнесением приговора:
Матерь Божья! Гавриил-архангел! Благовестите, благоволите, Нас урожаем благословите, Овсом да рожью, Ячменем, пшеницей, И всякого жита сторицей.
Входящие в летний цикл праздников Зеленые Святки являлись рубежом лета и зимы и состояли из нескольких обрядов: внесения в село березки, завивания венков, кумления, похорон кукушки (Костромы или русалки). При этом березка считалась символом неисчерпаемой жизненной силы. Во всех обрядах участвовали ряженые, изображавшие чертей, животных, русалок. Исполнялись обрядовые песни с имитативным сюжетом «Ты удайся, удайся мой лен» (в танцевальных действиях девушки сеяли, пололи, дергали, трепали, чесали, пряли лен), «Мы просо сеяли» (участники имитировали процессы сева, молотьбы, засыпания в загреб проса).
Важнейшие осенние земледельческие праздники зажинки (начало жатвы) и дожинки (окончания) не имели закрепления в календаре, поскольку напрямую зависели от созревания злаков, также были наполнены обширным комплексом обрядов.
Начало жатвы отмечалось особым обрядом «первого снопа», называемого «именинником» (как правило, его жала старшая женщина в семье). Сноп обвязывали разноцветными лентами, украшали цветами и ставили под иконами в переднем углу. По окончании жатвы сноп скармливали домашним животным, сохраняя зерна (символы будущего урожая – возрождения жизни хлебов) до следующего сева.
Процесс жатвы сопровождался обрядовыми зажнивными песнями, строй и ритм которых помогали организации тяжелого труда. Как описывает А.А. Коринфский, по утру выходили «зажинщики и зажинщицы на свои загоны, зацветала-пестрилась нива мужицкими рубахами да платками бабьими, …песни зажнивные перекликались от межи до межи. На каждом загоне шла впереди всех прочих сама хозяйка с хлебом-солью да со свечкой. Первый сжатый сноп – «за-жиночный» – звался «снопом-именинником» и ставился особь от других; ввечеру брала его зажинщица, шла с ним впереди своих домашних, вносила в избу и ставила именинника в красный угол хаты… На дожинки по деревням устраивали «мирскую складчину», …пекли пирог из новой муки… и праздновали окончание жатвы, сопровождая особыми, приуроченным к тому, обрядом». В складчине участвовали всем миром, поскольку, стараясь закончить работу быстрее, часто хлеб дожинали «всем миром» [5, с. 106].
Сопровождалось особыми обрядовыми действиями и окончание жатвы. Как отмечают этнографы, в отдельных регионах оно было связано с обрядом «козы»: старшая жнея оставляла небольшую круглую площадку несжатых колосьев, вокруг и внутри которой насыпалась трава, клались ломти хлеба, посыпанные солью. Колосья связывались наверху, образуя небольшой шалаш, называемый «козой». Над козой читались молитвы, благодарящие Бога за урожай и благополучный исход труда.
К концу жатвы был приурочен и обряд женитьбы серпа: жницы благодарили серп за то, что он был хорошим тружеником и не резал рук. Как отмечает Ф.С. Капица, серп обматывали пучком колосьев (при этом они свешивались с острия), «несколько раз кололи землю с приговором: «Ниву сжали / Страду пострадали / Гибкими спинами / Острыми серпами. / Слава Богу, / До Нового году». На поле оставляли несжатый пучок колосьев, пожинальную «бороду» («заламывали бороду»), предназначая кому-нибудь их христианских святых: Илье Пророку, Николе Чудотворцу или Егорию. Стебли свивали жгутом, а колосья втаптывали в землю. Затем сверху клали кусок хлеба, посыпанного солью. При этом женщина приговаривала: «Вот тебе, Илья, борода, / Расти овес на прок, / Корми доброго коня» [4, с. 151].
Последний сноп приносили в церковь и освящали. Его также украшали лентами, лоскутами, цветами, фиксирует Г.П. Блинова, «ставили под образа, где он стоял до Покрова…В день Покрова его торжественно выносили во двор и с особыми закликания-ми скармливали домашним животным, чтобы не болели. Закормленная таким образом скотина считалась подготовленной к долгой суровой зиме» [3, с. 107]. Зерно из снопа в начале будущего сева подсыпали в сетево.
Вместе с тем с повторяемостью, закономерно отмечается исследователями, обнаруживается и периодичность проведения обрядов.
Использование одних и тех же элементов в разных обрядах замкнутого годового цикла, с одной стороны, по мнению В.Я. Проппа, объяснялось цикличностью повторений жизненных явлений и «единой мировоззренческой основой и объединяю- щей все действия и помыслы земледельца задачей вырастить и сохранить урожай», с другой – утверждало понимание возобнов- ляемости всего живого как некоего заданного мирозданием закона [6, с. 54].
При этом «возобновляемость» основы- валась на статично закрепленных в календаре элементах, проявляемых сквозь призму разворачивания механизма концепта «возрождение». Таким образом, своеобразное отношение к времени в мозаике культурных традиций явилось скрытым фундаментом, определяющим суть всей земледельческой культуры.
Так вводилась символика центрального семиотического ряда – символика круга, кольца, колеса. Круг – первичный символ единства бесконечности. Движение по кругу означало постоянное возвращение к самому себе, возрождение первоначала.
Идея круга проявилась в календаре и была связана одной смысловой связью с солнцеворотом. Календарь природы строился на том, что каждая дата, отмеченная на круге, обозначает поворот погоды. Кольцо – всегда рассматривалось как символ сближения, совершенства и бессмертия. Колесо служило символом солнца, бега времени по определенной колее. Потому движущееся колесо было знаком динамизации самой жизни [9, с. 31].
К началу II тысячелетия практически каждый день года оказался связан в христианской традиции с памятью того или иного святого, апостола или другого почитаемого лица, особо чтимыми чудотворными иконами. Как писал А.К. Байбурин, «церковный месяцеслов пристраивался не на пустое место, а на сложившийся задолго до него народный земледельческий календарь… Церковные даты служили лишь удобными ориентирами для определения последовательности земледельческих работ и занятий. Земледельческое осмысле- ние этих дат отчетливо проявляется при ближайшем рассмотрении» [2, с. 4].
Основой для нового календаря явились святцы . Праздничные циклы, соединяясь между собой, образовали цепочку ежедневных средних и малых праздников (полупраздников), календарных примет и наблюдений, зарифмованных в присловья, образуя устный крестьянский календарь – земле дельческий месяцеслов .
К церковному календарю оказался приуроченным календарь хозяйственный: начало сева, сенокоса, жатвы и т.д. Аграрный год продолжал условно делиться на две части. К первой части аграрного года – зима и весна, – носившей охранительный характер,
Общество
«отходили» два главных праздника подвижной части календаря, символизирующие саму идею возрождения, Масленица (славянский Новый год) и Пасха, а ко второй – лето и осень, – носившей благодарственный характер, – третий праздник подвижной части календаря Троица – Зеленые Святки – символ окончательно пробуждения природы. Не случайно, в основе их празднования закладывалась символика разжигания огня (в виде костра или священного огня Воскрешения), символика горящих колес, спускаемых с пригорков, игры с кольцами или крестные ходы, совершаемые в обхождении по кругу культовых мест.
Формой проявления очищения, возрождения, обновления человека в обрядовой жизни служили пронизывающие круглый год посты. Эта нравственная сторона поста влияла на повседневную жизнь русского человека, в которой не допускались ни игры, ни песни, ни шумные сборища; разрешались лишь песни закликательно-го содержания (окликания), и то они не пелись, а скорее кричались.
Календарный (и в этом соответствии обрядовый) год строился по принципу вечного круговорота. Русский человек понимал его практическое выражение – зима и лето сменяют друг друга, и верил, что год, как, по сути, и вся жизнь человека, символически отражает переменчивый баланс сил Зла и Добра, Света и Тьмы. При этом утверждалось единое знание: вечное возвращение Жизни, открывающее перед людьми новые жизнеустроительные горизонты.
По мнению А.Н. Афанасьева, календарная обрядность исходила из мировых координат (деления года на летние и зимние циклы, когда весна – преддверие лета, а осень – зимы). Обрядность, утверждает ученый, как бы образовывала восходящую кривую от Рождества к Иванову дню и нисходящую – от Иванова дня к Рождеству. Такая траектория движения давала пред- ставление о годовом обрядовом круговороте, опорными точками которого были зимний и летний солнцевороты [1].
Календарь явился великим архаическим символом возрождения, борьбы природных стихий. При этом восстановление равновесия каждый раз было «динамическим», то есть подвижным, о чем и свидетельствовал, по мнению русского человека, сам естественный годовой цикл природы – «круглый год».
Возникая на основе производственной деятельности, обряды также стали средством выражения архетипного основания традиционной культуры, формой трансляции коллективных эмоций и духовного здоровья, механизмом передачи многовекового опыта земледельческой культуры, ее ценностей и идеалов. Не случайно система обрядовых действий выполняла множество функций: организационную (трудовую), прогностическую, утилитарно-эстетическую (художественную), коммуникативную, социальную и т.д.
При всей своей консервативности (русские народные обряды одни из наиболее архаичных) обряды, в определенной мере отражали изменения, происходившие в культуре русского народа на протяжении его истории, под действием глубоких и длительных этнокультурных процессов, межкультурной коммуникации (будь-то смена хозяйственного уклада, территории проживания, утверждение религии и т.д.).
Календарь и обряд заключили в себе богатейший опыт людей по освоению природы и окружающей среды, систематизированный и сакрализованный (архетипный) в призме национального сознания в идее реализации концепта «возрождение». Календарь и обряд в их художественном оформлении дали запечатление модели мира человека традиционной культуры и природы, так полноценно выразившихся в художественном творчестве русского народа.
Terra Humana
Список литературы Формы воплощения концепта «Возрождение» в календарно-обрядовой культуре русского народа
- Афанасьев А.Н. Народные праздники. Древо жизни. -М.: Современник, 1982. -464 с.
- Байбурин А.К. Календарь и трудовая деятельность человека. (Русский народный традиционный календарь). -Л.: Знание, 1989. -32 с.
- Блинова Г.П. Художественное творчество народа в календарных праздниках и обрядах//Народная художественная культура/Учебник; под ред. Баклановой Т.И., Стрельцовой Е.Ю. -М.: МГУКИ, 2000. -С. 76-111.
- Капица Ф.С. Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы: Справочник. -М.: Наука; Флинта, 2008. -216 с.
- Коринфский А.А. Народная Русь.-Смоленск: Русич, 1995. -656 с.
- Пропп В.Я. Русские аграрные праздники (опыт ист.-этногр. исслед.). -М.: Лабиринт, 2000. -188 с.
- Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. -М.: Наука, 1988. -235 с.
- Сахаров И.П. Сказания русского народа, собранные И.П. Сахаровым/Сост. и коммент. С.Д. Ошевского; предисл. Г.П. Присенко. -Тула: Приок. кн. изд-во, 2000. -477 с.
- Шейнина Е.Я. Энциклопедия символов. -М.: ООО «Издательство АСТ», Харьков: ООО «Тросинг», 2002. -591 с.