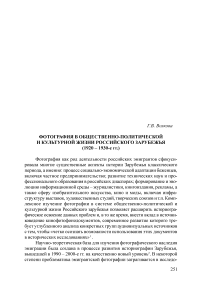Фотография в общественно-политической и культурной жизни российского зарубежья (1920 - 1930-е гг.)
Автор: Волкова Галина Викторовна
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Антибольшевистская Россия
Статья в выпуске: 16, 2007 года.
Бесплатный доступ
Российское зарубежье, фотография, культурная жизнь, эмиграция
Короткий адрес: https://sciup.org/14913397
IDR: 14913397
Текст статьи Фотография в общественно-политической и культурной жизни российского зарубежья (1920 - 1930-е гг.)
Фотография как род деятельности российских эмигрантов сфокусировала многие существенные аспекты истории Зарубежья классического периода, а именно: процесс социально-экономической адаптации беженцев, включая частное предпринимательство; развитие технических наук и профессионального образования в российских диаспорах; формирование и эволюцию информационной среды – журналистики, книгоиздания, рекламы, а также сферу изобразительного искусства, кино и моды, включая инфраструктуру выставок, художественных студий, творческих союзов и т.п. Комплексное изучение фотографии в системе общественно-политической и культурной жизни Российского зарубежья позволяет расширить историографическое освоение данных проблем и, в то же время, внести вклад в источниковедение кинофотофонодокументов, современное развитие которого требует углубленного анализа конкретных групп аудиовизуальных источников с тем, чтобы «четко осознать возможности использования этих документов в исторических исследованиях»1 .
Научно-теоретическая база для изучения фотографического наследия эмиграции была создана в процессе развития историографии Зарубежья, вышедшей в 1990 – 2000-е гг. на качественно новый уровень2. В некоторой степени проблематика эмигрантской фотографии затрагивается в исследо- ваниях, посвященных издательской деятельности3, коллекционированию и музейному делу4, истории региональных диаспор5, а также в обобщающих трудах по истории российской эмиграции ХХ в.6 Однако непосредственно к теме фотографии как общественно-культурному и художественному явлению в истории Российского зарубежья отечественные исследователи практически не обращались. Исключение составляет статья В. Леонидова о выдающемся фотографе П.И. Шумове, с 1907 г. работавшем во Франции7 .
В западной, прежде всего немецкой, литературе внимание традиционно уделялось творческим контактам между иностранными и советскими фотографами, творчество которых в 1920 – 1930-е гг. было значительно более заметным в культурной жизни Европы, чем деятельность их бывших сооте-чественников8.
Свидетельством постепенных изменений в отношении к эмигрантской фотографии стал выход в свет в течение последних десяти лет нескольких фотоальбомов и иллюстрированных монографий, в которых был опубликован богатейший фотографический материал, созданный (и сохраненный) в Зарубежье. Эти издания сочетают информационные и аналитические материалы по истории культуры и искусства Зарубежья 1920 – 1930-х гг. с насыщенным иллюстративным рядом, который включает историческую и современную фотографию. В значительной степени они созданы на основе зарубежных фотоархивов, включая частные собрания, при участии эмигрантских и иностранных авторов.
Первым назовем двухтомный альбом «Российская эмиграция в фотографиях», составленный коллекционером А. Корляковым при содействии деятелей культуры Российского зарубежья, включая потомков П. Шумова, С. Лифаря и других9 . В предисловии к первому тому этого уникального издания, вероятно впервые, был поставлен вопрос о важности научного изучения фотографий в контексте проблематики зарубежной России, предпринята попытка дать характеристику их социально-культурной роли: «Когда-то они заполняли страницы газет и журналов и адресовались человеку-эмигранту в конкретный день его жизни. Помещенные на листы семейных альбомов, они хранили воспоминания о доме, о счастье, о любви… С рекламных афиш они сообщали о новой работе артиста или художника. И всегда притягивали к себе внимание»10 .
Необходимо также упомянуть монографию-альбом А. Васильева «Красота в изгнании» (М., 1998), каталог персональной выставки П.И. Шумо-ва11, российско-германско-французское издание «Русская душа. Парижские времена» (СПб., 2004) и т.п.
Публикация значительного объема фотоматериалов разнообразной тематики и жанров, созданных российской эмиграцией, и наличие еще более значительных архивных собраний эмигрантской фотографии позволяет говорить об обширном исследовательском поле, которое предоставляет возможность для многопрофильных научных изысканий в области истории, культуры и искусства зарубежной России. В рамках данной статьи предпринята попытка охарактеризовать роль фотографии в общественно-политической и культурной жизни Зарубежья 1920 – 1930-х гг.
Прежде всего, следует отметить, что деятельность российской эмиграции в сфере фотографии осуществлялась в нескольких направлениях, среди которых важнейшими являлись: частное предпринимательство (в рамках которого развивалась и художественная фотография), фотожурналистика и коллекционирование фотоматериалов.
Потребность в фотографических услугах российских беженцев была высокой: фотографии были нужны на паспорта и виды на жительство, для поиска без вести пропавших в годы революции и Гражданской войны родных, для знакомств по брачным объявлениям и т.п. Вынужденные расставаться в ходе миграций по различным странам, члены семьи, выпускники учебного заведения, однополчане, сослуживцы и т.п., как правило, желали обмениваться фотографиями на память. В то же время любительская фотосъемка не являлась массовым увлечением. «Фотоаппараты тогда не были распространены», – пишет мемуарист В. Феофилов, проживавший в 1930-е гг. в Харбине12 .
В большинстве российских диаспор за рубежом действовали фотографы-предприниматели, которые осуществляли съемку на документы, изготовление индивидуальных и групповых фотопортретов и т.п. В США и Китае, лимитрофных государствах, российские фотомастерские существовали еще до революции.
Владельцами фотомастерских и магазинов в русском Харбине были Б.М. Подольский, С. Гейлер. Я.М. Лившиц, Половников, Н.Д. Логинов, З.И. Жданова. Вообще профессия фотографа не являлась в Зарубежье исключительно мужской. Художественной фотографией занималась, в частности, уроженка Харбина, художница и литератор Л.А. Ястребова. Выехав в 1927 г. в Австралию, она открыла в Сиднее собственную фотостудию, в которой работала многие годы13 . В справочнике «Весь Харбин» за 1923 г. помещено 245 названий фотографических фирм и магазинов, большинство которых принадлежит выходцам из России14 . Фотографический отдел действовал в крупных магазинах известного на Дальнем Востоке торгового дома И.Я Чурина.
Часть фотомастерских претендовала на высокий художественный уровень работ, что видно из их названий: «Рембрандт», «Рафаэль», «Светопись», «Ателье изящной светописи». Фотографии исполнялись также при харбинском «Товариществе художников» и «Томском товариществе». В Харбине в 1920-е гг. работали мастера художественной фотографии П.Н. Абламский, Я.М. Лившиц, И.К. Кузин и другие15 .
«Единственная русская художественная фотография в Нью-Йорке Бориса Ситникова» в 1930-е гг. выполняла портреты, медальоны, фамильные, групповые и свадебные, в том числе цветные, увеличение фотографий для клиентов в США и Канаде.16 В это же время действовала и «Единственная на Ист-сайде художественная русская фотография Раппопорта». Ее специализацию также составляли свадебные группы, групповые снимки, увеличение портретов в красках, миниатюры, брошки, эмали17 .
После 1917 г. фотоделом стали профессионально заниматься бывшие офицеры, представители научно-технической интеллигенции, студенчества. Например, бывший каппелевец Г.Г. Климов, изучил, по-видимому уже в Харбине, фотографическое дело и был приглашен фотографом в железнодорожный розыск18 . Старший лейтенант флота Д.П. Жемчужин, с 1920 г. проживавший в Харбине, в первые годы изгнания перепробовал много различных занятий (от бурового мастера до торговца молочными продуктами). Однако постепенно его деятельность становилась все ближе к искусству, коллекционированию и фотографии: в 1923 – 1925 гг. он торговал марками, а затем – фотографической бумагой и граммофонными пластинками. С 1930 г. он стал представителем немецкой фотофабрики «Мимоза» в Харбине19. (В Китае в 1920 – 1930-е гг. работали представительства крупных европейских и американских фотографических фирм, среди них – магазин фирмы «Codak» в Харбине).
В заметках В. Ткачева о жизни российских беженцев в Бельгийском Конго сообщается: «Большой популярностью пользуется полковник Н., создавший самое крупное в городе фотографическое ателье. Прибыв сюда четыре года назад с несколькими тысячами и небольшим любительским аппаратом, путем упорной работы он создал себе обширную белую клиентуру, строит дом и налаживает обширное рыболовное дело. Его художественными работами заинтересовался король Альберт»20 .
В 1930-е гг. в Югославии один «боевой генерал слыл за лучшего группового фотографа».21
Таким образом, занятие фотоделом стало одной из форм социальноэкономической адаптации российских беженцев в различных странах и регионах мира. В то же время, это занятие зачастую было не просто ремеслом, а приобретало творческий характер.
Значительная часть деятелей эмигрантской фотографии была связана с миром искусства. Фотографические услуги, в первую очередь создание фотопортретов, было ориентирована на обеспеченные и образованные слои эмиграции. В Берлине предприниматели-эмигранты специализировались «на предметах роскоши, моде, украшениях, табачных изделиях, курительных принадлежностях, а также сфере услуг, экспортно-импортных операциях, фотографии, художественных промыслах… на той сфере потребления высокого уровня, которой так славился Петербург»22 . Фотографом-художником стал известный гармонист-виртуоз В.И. Игнатов, бывший некогда учеником И.Е. Репина23 . Выпускник Хабаровского кадетского корпуса А.А. Васильев, прибыв в Югославию в 1920 г., уже через два года принял участие в первой выставке русских художников в Белграде, позднее закончил художе- ственную школу и архитектурное отделение технического факультета Белградского университета. Работая в Военном музее с 1936 по 1941 гг., он был и архитектором и художником, и мастером художественной фотографии24 . Л.А. Ястребова, бравшая уроки живописи у художника-академика П.В. Ни-колина-Теплякова, пишет: «Еще живя в Дальнем (Дайрене), я изучила портретную фотографию, которая далась мне, буквально, шутя, благодаря тем знаниям и навыкам, которые были заложены в юности»25 .
Главным центром эмигрантской художественной фотографии в 1920 – 1930-е гг. была Франция. В Париже действовали фотоателье П. Шумова, Русская фотография А. Рожинского (Photo-Manon) и студия художественной фотографии Э. Марковича. Студия художественной фотографии, которую возглавлял доктор медицины Е.Б. Липницкий, открылась в Париже в ноябре 1921 г.26 Российские фотохудожники принимали участие в салонах и выставках, деятельности русских и французских центров художественной культуры.
П.И. Шумов, который выехал из России во Францию в 1907 г. по политическим мотивам и обучился за границей технике фотографии, создал портретную галерея современников, главным образом деятелей культуры и искусства, среди которых – Л. Бакст, М. Волошин, Б. Зайцев, А. Куприн, А. Ремизов, В. Ходасевич, М. Цветаева, М. Шагал, И. Шмелев. Особо выделяется его серия фотографий престарелого Огюста Родена. Авторитет П.И. Шумова, его близость к творческой элите эмиграции подтверждается, в частности, «Обезьяньей грамотой» А. Ремизова, которую писатель «скрепил и деньги волшебными снимками получил» в июне 1924 г.27
В каталоге художественного собрания французского слависта и коллекционера Р. Герра, демонстрировавшегося в 1995 г. в Москве, опубликована фотография – портрет И.С. Шмелева и его близких (жены писателя и его племянницы Ю. Кутыриной с сыном И. Жантийомом). Этот снимок, подаренный Шмелевым «сердечно-добрым нашим друзьям К.В. и Ант. Ив. Деникиным» в 1927 г. во время пребывания в Камбретоне, был выполнен, как указывается в аннотации, в том же году П.И. Шумовым28 . В правом нижнем углу можно видеть подпись фотографа «Choumof. Paris», а на левой стороне фирменного паспарту вертикальный оттиск «Choumof». Оригинал фотографии немного выцвел: возможно, снимку недостает контрастности. Тем не менее этот групповой портрет имеет несомненную художественную ценность. Значительность лиц супругов Шмелевых, красота Ю. Кутыриной и ее маленького сына высвечена в мягких полутонах. Композиция фигур, создающая волнообразный восходящий вправо контур, разность в выражениях лиц позирующих подчеркивают индивидуальность каждого и в то же время – общую атмосферу грусти и скрытой тревожности.
Этот снимок, подаренный А.И. Деникину, должен был бы находиться в личном фотоальбоме генерала, переданном в конце 1990-х гг. его дочерью Мариной Грей на хранение в Государственный архив Российской Федера- ции29 . В альбоме имеется несколько любительских снимков супругов Деникиных вместе со Шмелевыми и Кутыриными; на одной из таких фотографий присутствует также поэт К.Д. Бальмонт30 . Однако фотопортрет, выполненный Шумовым, оказался в коллекции Р. Гера.
Известная фотография Марины Цветаевой в Париже (1925 г.) работы Шумова из частного собрания демонстрировалась в 1996 г. на выставке «Москва – Берлин»31 .
1 марта 1921 г. в Париже открылась выставка художественных фотопортретов Шумова, а в декабре они были выставлены в помещении фабрики «Люмьер». В 1925 г. его фотографии были удостоены золотой медали на выставке декоративных искусств в Париже. В 1927 г. на Осеннем салоне, в котором принимали участие около ста русских художников (Б. Григорьев, М. Добужинский, А. Яковлев, Ю. Анненков, К. Терешкович и другие), была представлена витрина художественных фотографий и инсталляций Шумова: портреты Родена, Моне, Клемансо, А. Франса (последний был выполнен из дерева различных пород). Он участвовал также в Салоне Тюильри в мае 1932 г. Кроме того, он пропагандировал технику и искусство фотографии: в начале января 1922 г. выступил в обществе «L’art et science» с докладом о художественной фотографии, а 7 мая 1923 г. прочитал публичную лекцию на французском языке «Успехи фотографии и роль художественной фотографии»32.
Фотографы-эмигранты принимали участие в благотворительных акциях российской общественности, жертвуя свои работы на лотереи и аукционы, проводившиеся в пользу нуждающихся. Например, фотографы Эмиль Маркович и Петр Шумов пожертвовали свои фотографии для лотереи на балу Комитета помощи писателям и ученым в январе 1929 г. Среди жертвователей лотов были и мастера живописи – Н.С. Гончарова, М. Добу-жинский, М. Ларионов, О. Цадкин, Б. Шухаев и другие.33
Важное место в работе фотографов занимала реклама, в которой также раскрывался художественый характер их деятельности.
Так, в парижском «Русском альманахе» 1930 г. имеется рубрика «Театральные студии, фотографы, ювелиры», в которой помещена реклама двух наиболее известных фотографов – Марковича и Шумова. «Известный своими художественными фотографиями фотограф-художник П.И. Шумов лично принимает своих клиентов в его студии. Цены умеренные», – говорится в объявлении. Характерно, что на этой же странице помещена реклама фирмы Фаберже34 . В другом парижском эмигрантском журнале таким же текстом сопровождается рекламная фотография – портрет красивой молодой женщины в испанском костюме (Кармен), стоящей перед зеркалом. Этот прием позволяет видеть лицо модели одновременно в разных ракурсах. Темный корсаж с белыми узорами и большой белый цветок в волосах подчеркивают свойственную работам Шумова игру на контрасте света и тени35 .
В парижском журнале «Россия», издававшемся в начале 1930-х гг. Е.Д. Коноваловым, печаталась реклама «Артистической студии Рожинско- го» на авеню Терн, который предлагал читателям «России» и «Казачьего журнала» сделать бесплатные пробные снимки, после чего, «удовлетворенные работой, они будут любезны заказать по умеренным ценам последующие снимки»36 . В качестве образцов работы фотографа представлены портреты актрисы Долли Дэвис, с жемчужным ожерельем на шее, с нежной, чуть лукавой улыбкой, дирижера струнного оркестра Г.Д. Черноярова, в горделивой позе, облаченного в эффектный концертный костюм, и других деятелей искусства. Текст под одной из фотографий весьма многозначителен: «Для Рожинского не нужно быть фотогеничным. Он достигает прекрасных результатов, благодаря совершенному освещению студии и уменью придать изящность позе клиента»37 .
Некоторые фотоателье, а также просветительные организации открывали курсы обучения фотомастерству. Так, фотомастерская Бориса Ситникова в Нью-Йорке помещала в печати в начале 1930-х гг. такие объявления о наборе учеников «для изучения фотографического дела»: «Пусть вас не смущает малограмотность. Изучив фотографическое дело, вы создадите себе более легкую жизнь, чем на фабрике. Многие мои ученики хорошо уже устроились»38 .
В марте 1931 г. при Студенческом клубе РСХД в Париже был организован Кружок любителей фотографии под руководством фотографа И.А. Вахромеева. Занятия кружка были бесплатными39 . В Тржебовской русской гимназии действовали группы любителей ручного труда (переплетная и столярная мастерские), естествоведения (собрания коллекций бабочек, гербарий, террариум), филателистов, фотографов-любителей.40
Фотография стала частью научной и образовательной деятельности эмигрантов. Устроителями лекций и докладов просветительного назначения, особенно для детей и юношества, часто при помощи проекционного фонаря демонстрировались фотографии, картины, фильмы о русской природе и архитектуре, чтобы создать представление о родине, которую многие из слушателей никогда не видели. Например, при культурно-просветительном центре «Русский очаг» в Праге собиралась коллекция диапозитивов по русскому и всеобщему искусству и по истории русских городов. К 1928 г. их насчитывалось 380. Коллекция широко использовалась при чтении лекций в различных городах Чехословакии, Франции, Швейцарии, Сербии, Болгарии41 .
Яркий пример подобной практики – лекции выдающегося фотографа и исследователя, одного из пионеров цветной фотографии профессора С.М. Прокудина-Горского. Так, в русской гимназии в Булонь-Биянкуре 20 декабря 1931 г. состоялся его доклад «Россия в картинах. Волга» с демонстрацией «световых картин». 10 января 1932 г. он выступал в русской гимназии в Булони с докладом «Россия в картинах (Туркестан, Старая Бухара, Голодная степь, Мургайская степь и Мугань)». Показ на экране с помощью проекционного фонаря более 120 снимков с видами России из его коллекции стал центральным номером программы вечера Союза деятелей русского искусства, состоявшегося в Париже в зале д’Орсе 28 марта 1932 г. Фотографии из собрания Прокудина-Горского были показаны летом 1932 г.
на празднике «Россия в картинах» в Шавиле, на ежегодном детском празднике, который устраивало в Париже в школе Рудольфа Штайнера Общество взаимопомощи русских женщин, и на утреннике, организованном Комитетом содействия национальному воспитанию молодежи42 .
В марте 1935 г. фотографические виды России из коллекции Прокудина-Горского демонстрировались в Русской академической группе в Париже. Профессор выступал здесь с научными докладами и воспоминаниями. Так, 26 октября 1935 г. он делал сообщение «Неделя в Ясной Поляне у Л.Н.Толстого»43 .
В середине 1930-х гг. Прокудин-Горский приглашался эмигрантскими общинами для чтения лекций в различных городах Франции. Так, он выступал перед молодежной аудиторией общества «Русский сокол» с лекциями «Центральная Россия», «Среднее течение Волги», «Кавказ и его народы» и т.п.44
Иллюстрировались фотографическими материалами лекции В.В. Вей-дле, которые он читал в Кружке истории искусства в Париже45 .
Технике фотографии и ее прикладному использованию посвящали свои занятия общества российских инженеров и другие научные объединения в различных странах Европы. Например, 18 апреля 1928 г. состоялся доклад П.И. Шумова в Обществе русских инженеров «Воспроизведение цветов фотографическим путем»46 .
Фотоиллюстрация стала одним из компонентов развития книжной культуры зарубежной России. Это проявилось, в частности, в деятельности издательства Я. Поволоцкого в Париже, издательства «Пламя» в Праге и других. Фотографии помещались в фотоальбомах и иллюстрированных документальных сборниках исторического и краеведческого характера, которые издавались в 1920 – 1930-е гг. в различных центрах зарубежной России. Так, альманах «Русская земля», изданный Религиозно-педагогическим кабинетом Богословского института в Париже, содержал подборку стихов и рассказов ведущих писателей Зарубежья, а также статьи о русской литературе и работу И.Я. Билибина об архитектуре Русского Севера, был хорошо иллюстрирован, в том числе фотографиями памятников деревянного зодчества Олонецкой и Архангельской губернии47 . В 1926 г. один из наиболее известных архитекторов российского зарубежья Р.Н. Верховский, работавший до 1937 г. в Белграде48 , издал «Альбом композиций периода 1923 – 1926» с 19-ю фотографиями.
Харбинское фотоиздательство «Изида» А.Я. Шнейдер-Нагорского (как сообщалось в его рекламе, «1-е на Дальнем Востоке») занималось выпуском «фотографических книг, альбомов, картин, рекламных фотографий». Здесь же выполнялись все виды фотографических работ, цинкографические, литографические и типографские работы на заказ49 .
Прибегали российские зарубежные издательства и к услугам иностранных специалистов в области фотографии. Так, для каталога художественного собрания Русского культурно-исторического музея в Праге, напечатанного в начале 1939 г. в количестве 350 экземпляров, фотографии для клише были изготовлены пражской фирмой «Foto-Centropress»50 .
Роль фотографии в общественной жизни эмигрантов особенно ярко раскрывается в иллюстрированных периодических изданиях, выходивших в Париже, Берлине, Харбине, Нью-Йорке и других центрах зарубежной России. В условиях высокой активности и идейной неоднородности общественнополитических, профессиональных, творческих и культурно-просветительных объединений эмигрантская фотожурналистика стала фактором общественного влияния через эмоциональное воздействие на читательскую аудиторию. Эти фотоматериалы характеризуются сюжетным разнообразием и отражают практически все стороны жизни зарубежной России, а также международные политические и культурные события.
В фотографических образах Советской России, естественно, преобладает негативный план (голодающие Поволжья, митинги домохозяек, арестованные под конвоем, «советский флирт», очереди, разрушение церквей и т.п.). Для отражения повседневной жизни в Советской России, как правило, выбирались фотографии с дегенеративными типами персонажей, в рваной одежде. Восприятие сюжета зрителем формировалось при помощи соответствующих заголовков и комментариев. С другой стороны, большое место в эмигрантской прессе занимают фотопортреты гастролировавших в Европе и США советских артистов, папанинцев, а также репортажи о международных событиях с участием советских дипломатов и политических деятелей.
Достаточно наглядно тематика и идейный спектр эмигрантского фоторепортажа представлен в специальном рекламном (о подписке на 1939 г.) номере еженедельника «Иллюстрированная Россия», где были помещены лучшие и наиболее характерные снимки корреспондентов журнала 1938 г.: фотозарисовки «В русской балетной школе в Париже» и «Советская артиллерия на маневрах», несколько видов и типов жителей Карпат, «Контрасты Токио», фотопортрет Марии Кюри. Характерна презентация еженедельника как издания « с обильным фотографическим материалом из жизни советской России и всего мира».
Эмигрантская пресса проявляла интерес и к достижениям иностранного фотоискусства. Например, в октябре 1938 г. «Иллюстрированная Россия» опубликовала «замечательный фотоэтюд известного фотографа Эв. Гай-ниса, в котором ему удалось с исключительным мастерством передать все нюансы скорости в движении волос, развеваемых ветром» (серия из четырех снимков молодой женщины за рулем автомобиля)51 .
Коммуникативная роль фотографии в Российском зарубежье определялась ее выразительностью и универсальностью. Обмен фотографиями между родственниками, друзьями, общественными организациями, действующими в разных странах, публикация фоторепортажей о жизни диаспор, Днях русской культуры и т.п. содействовали сохранению единого информационно-культурного пространства. В частности, фотограф приглашался для фиксации событий Дня русской культуры в Чехословакии в 1925 г. (было сделано 18 снимков на сумму в 150 чешских крон)52 . Во время проведения Дня русской культуры в 1932 г. осуществлялась также продажа фотографий, выручка от которой составила 45 крон53 .
Фотографии фиксировали различные события эмигрантской жизни: выпуски русских школ, съезды ученых и писателей, просто расставания и встречи. Нина Берберова вспоминает, что 8 сентября 1923 г., в предвидении скорого отъезда из Берлина, она, В. Ходасевич, А. Белый снялись на групповом фото в ателье на Тауенцинштрассе (этот снимок был опубликован в мюнхенском сборнике стихотворений В. Ходасевича 1961 г.)54. Групповое фото часто становился кульминацией общественных событий, в ряде случаев – своего рода благотворительной акцией. Так, председатель Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии Н.И. Астров писал в декабре 1932 г. одному из участников празднования 10-летнего юбилея союза: «Правление искренне признательно Вам и за то, что Вы дали возможность сделать фотографический снимок группы членов Союза»55.
Ретроспективная портретная и видовая фотография, фотопортреты эмигрантских лидеров были частью интерьеров учебных заведений, офицерских собраний и клубов, входили в состав их архивов и библиотек. Так, «Морской журнал» писал, что «собрания Военно-морского исторического кружка в Париже, несомненно, отвечают назревшим потребностям и посещаемость их все более и более увеличивается… Пополняется библиотека, поступает значительное количество фотографий, из которых состоят альбомы, иллюстрирующие жизнь и боевую деятельность Русского флота»56.
Коммуникативная и мемориальная роль фотографии сохранялась для эмигрантов пореволюционной волны и в послевоенные десятилетия. Так, О.К. Войнюш (Александрова), в 1940-е гг. преподававшая русский язык в Харбинском институте иностранных языков и вернувшаяся в СССР в 1955 г., через много лет получала письма и семейные фотографии от своих бывших учеников57 . Бывший харбинец А.С. Свистунов писал по поводу иллюстрированной фотографиями статьи о старом Харбине: «…Упомянутое юбилейное издание Пушкина 1937 г. было в нашей семье даже в двух экземплярах. Сейчас так интересно узнать историю издания этой памятной для меня книги, открывшей для меня Пушкина. И вот передо мной фото организатора и составителя того юбилейного издания… А сколько знакомых ниже – на свадебном фото! Как будто снова побывал в тех годах… подпись под фото: К.О. Павлючик, а в памяти год 37-й или 38-й. Я с отцом в домике Павлючи-ков где-то в глубине Зеленого Базара»58 .
Важную роль в общественно-политической и культурной жизни Зарубежья играла ретроспективная фотография, запечатлевшая природу, памятники архитектуры, события политической и культурной жизни дореволюционной России, военачальников, политиков, писателей, деятелей искусства дореволюционной эпохи и периода Гражданской войны.
Формирование коллекционного фотографического фонда российской эмиграции происходило на протяжении 1920 – 1930-х гг. и в послевоенные годы. В значительной степени этот процесс определялся психологическими особенностями беженства: «бросая личные вещи, многие беженцы пытались сохранить дорогие им семейные реликвии: фотографии, письма, документы, дневники, мемуары, иконы, награды…»59 Эта художественнодокументальная летопись использовалась в культурно-просветительной и пропагандистской деятельности, стала предметом частного и общественного коллекционирования в рамках решения задачи сохранения исторической памяти и передачи ее молодому поколению эмиграции.
Ретроспективная фотография стала одним из важных элементов бытовой культуры эмигрантов.
Фотографии политиков и деятелей культуры дореволюционной России, оказавшихся в эмиграции, бытовали в альбомах европейских аристократов, литераторов, коллекционеров, редакциях газет и журналов, как российских, так и иностранных. В 1932 г. А.Ф. Керенский посетил в Берлине издательство «Ульштайн», где рассматривал свои собственные фотографии60. Аналогичное значение в последующий период приобрели и фотоматериалы, возникшие в 1920 – 1930-е гг., независимо от их жанра и цели создания.
Фотография и фотоиллюстрация различных жанров и времени создания стала объектом коллекционирования как частными лицами (Н.И. Тим-ковский и другие), так и культурно-историческими и научными центрами. Фотографии собирали Русский культурно-исторический музей и Русский Заграничный исторический архив в Праге и другие организации. Благодаря этой деятельности сформировались комплексы фотоматериалов, имеющих огромное научное, информационное и культурное значение.
В 1923 г. при поддержке Министерства иностранных дел Чехословакии группой ученых был учрежден Русский заграничный исторический архив. «Главной целью Архива стало собирание и хранение всех материалов (рукописных и печатных), относившихся к истории революции, гражданской войны в России и русской эмиграции: книги, периодические издания, вышедшие в Русском Зарубежье и на территории “Белого движения”, плакаты, отчеты, протоколы, рукописи, воспоминания, дневники, записные книжки, фотографии, денежные знаки, рисунки и пр.»61. Только за первый год в РЗИА «поступило около 300 тысяч архивных листов, среди них 25 рукописей и 837 фотографий и рисунков»62 .
В составе Русского культурно-исторического музея в Праге имелось книжное отделение с отделом автографов и большим собранием фотографий. Фотоматериалы собирались также историческим отделением музея. В предисловии к художественному каталогу, изданному в Праге в 1938 г., составители писали: «Множество фотографий также отражает жизнь русских за рубежом, в частности – представителей русской науки, литературы, театра, общественности и т.д. Не забыт здесь и русский некрополь»63 .
Обществом истории Манчжурского края (ОИМК) в Харбине 29 апреля 1924 г. была открыта фотографическая выставка, на которой были представлены работы 42 авторов64 . Фотоматериалы занимали значительное место и в коллекциях музея ОИМК, в составе которого к концу 1924 г. был создан фотографический отдел. После закрытия общества китайскими вла- стями все коллекции перешли в ведение Департамента народного просве-щения65. Фотографии экспонировались на юбилейной выставке КВЖД в июне 1923 г.66 (Несколько уникальных фотоальбомов из собрания Управления КВЖД хранятся в настоящее время в ГАРФ67 ).
Множество гравюр и фотографий демонстрировалось в Музее русской конницы и музее памяти Николая Второго в Русском доме в Белграде (открыт в 1933 г.), посещаемость которого достигала в среднем 2 000 человек в день68 .
Уникальная коллекция из 260 почтовых открыток с видами русских городов и поселков Маньчжурии 1899 – 1940-х гг. была собрана поэтом, литератором, знатоком литературного наследия Российского зарубежья Е.В. Витковс-ким и передана в 1999 г. в дар Приморскому государственному объединенному музею им. В.К. Арсеньева. Это собрание легло в основу ряда исследований по истории архитектуры и культуры русского Дальнего Востока69. Часть этих открыток была издана непосредственно в Харбине издательскими фирмами «Розенфельд и Щелоков», «Розенфельд и Юргенс», Б. Самариным и другими70 .
Таким образом, в общественно-политической и культурной жизни российской эмиграции, в повседневной жизни российских диаспор за рубежом в 1920 – 1930-е гг. значение фотографии определялось не только социально-бытовыми и культурными потребностями, но и специфическими условиями существования зарубежной России: разбросанностью эмигрантов, в том числе представителей одной семьи, профессиональной или социальной группы по разным странам и континентам, повышенной потребностью беженцев в печатном слове и корпоративном общении, широким развитием просветительного движения.
Российская эмиграция внесла большой вклад в развитие художественной, в первую очередь портретной, фотографии в Европе, США, на Дальнем Востоке. Фотоискусство стало органичной частью художественной жизни эмиграции и взаимодействия с творческой средой во Франции, Германии и других странах.
Значительное распространение в российских зарубежных диаспорах межвоенного периода получила фотожурналистика, ставшая фактором в идейно-политическом противостоянии СССР. В то же время фотоматериалы, публиковавшиеся в эмигрантской печати, фиксировали и распространяли визуальные представления о мире Российского зарубежья, общественной и культурной жизни различных стран, включая СССР, формируя единую информационную среду зарубежной России.
Дореволюционные фотоматериалы, их собирание и демонстрация, стали одной из важнейших составляющих деятельности эмигрантов по сохранению исторической памяти и национально-культурной идентичности, как в рамках повседневной семейной жизни, так и в системе частного и общественного коллекционирования и просветительства.
Фиксация и сохранение образов зарубежной России в документальных хрониках, семейных снимках, видовой, жанровой или портретной фотографии, выполненной российскими эмигрантами в межвоенный пери- од, явились существенным компонентом в формировании историко-культурного и художественного наследия российской эмиграции ХХ в. и международного культурно-информационного пространства.
Список литературы Фотография в общественно-политической и культурной жизни российского зарубежья (1920 - 1930-е гг.)
- Магидов В.М. Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания. М., 2005. С. 25.
- Там же. С. 42.
- Пивовар Е.И. Изучение и преподавание истории российского зарубежья в высшей школе 1990-х гг.: опыт, проблемы, перспективы//Историческая наука и образование на рубеже веков. М., 2004.
- Жирков Г.В. Между двух войн: журналистика русского зарубежья (1920 -1940). СПб., 1998.
- Базанов П.Н., Шомракова И.А. Книга русского зарубежья: Из истории книжной культуры ХХ века. СПб., 2003.
- Флейшман Л. Из истории журналистики русского зарубежья. Т. 1. В тисках провокации: Операция «Трест» и русская зарубежная печать. М., 2003.
- Докашева Е.С. Русский культурно-исторический музей в Праге. М., 1993.
- Муромцева Л.П., Перхавко В.Б. Музейные собрания российской эмиграции во Франции и Югославии//Вестник Московского университета. Сер. 8. История. М., 1998. № 2. С. 234-240.
- Быкова А.Г., Рыженко В.Г. Учреждения -хранители исторической памяти русской эмиграции: музеи, архивы, библиотеки. М., 2003.
- Серапионова Е.П. Российская эмиграция в Чехословацкой республике (20 -30-е гг.). М., 1995.
- Мелихов Г.В. Белый Харбин: Середина 20-х. М., 2003.
- Говердовская Л.Ф. Общественно-политическая и культурная деятельность русской эмиграции в Китае в 1917-1931 гг. М., 2004.
- Нитобург Э.Л. Русские в США: История и судьбы, 1870 -1970. М., 2005.
- Россия в изгнании: Судьбы российских эмигрантов за рубежом. М., 1999.
- Русские без отечества: Очерки антибольшевистской эмиграции 20 -40-х годов. М., 2000.
- Сабенникова И.В. Российская эмиграция (1917 -1939). Тверь, 2002.
- Ипполитов С.С. Российская эмиграция и Европа: Несостоявшийся альянс. М., 2004.
- Леонидов В. Великий и почти забытый Петр Шумов//Наше наследие. 2000. № 55.
- Шлегель К. Берлин, Восточный вокзал: Русская эмиграция в Германии между двумя войнами (1918 -1945). М., 2004.
- Москва -Берлин. Berlin -Moscau, 1900 -1950: Изобразительное искусство, фотография, архитектура, театр, литература, музыка, кино. М.; Берлин; Мюнхен, 1996.
- Русская эмиграция в фотографиях: Франция, 1917 -1947. Париж, 1999.
- Они сохранили достоинство и честь: Франция, 1917 -1947. Париж, 2001.
- Русская эмиграция в фотографиях... С.5.
- Русский парижанин: Фотографии Петра Шумова. Un parisien russe: Photographies de Piere Choumoff. М., 2000.
- Феофилов В. Кое-что о Харбине//Русская Атлантида (Челябинск). 2004. № 13. С. 57.
- Мелихов Г.В. Белый Харбин... С. 213-214.
- Весь Харбин на 1923 год: Адресная и справочная книга г. Харбина/Под ред. С.Т. Тернавского. [Харбин, 1923].
- Мелихов Г.В. Белый Харбин... С. 305.
- Русский календарь-альманах. Russian-American calendar-almanac: Справочник на 1932 год. Нью-Гейвен (New Heven), 1931.
- Зарницы (Нью-Йорк). 1926. Ноябрь. Т. 2. № 15.
- Незабытые могилы: Российское зарубежье: Некрологи, 1917 -1997. Т. 3. М., 2001. С. 308.
- Буяков А.М. Знаки и награды российских эмигрантских организаций в Китае. Владивосток, 2005. С. 173.
- Ткачев В. В Бельгийском Конго//Африка глазами эмигрантов. М., 2002. С. 105-106.
- Пио-Ульский Г.Н. Русская эмиграция и ее значение в культурной жизни других народов. Белград, 1939. С. 15.
- Шлегель К. Указ. соч. С. 175.
- Незабытые могилы... Т. 3. С. 50.
- Косик В.И. Что мне до вас, мостовые Белграда? Очерки о русской эмиграции в Белграде, 1920 -1950-е годы. Ч. 1. М., 2007. С. 189.
- Русский Харбин. М., 1998. С. 213 -214.
- Русское зарубежье: Хроники научной, культурной и общественной жизни, 1920 -1940: Франция. Т. 1. М., 1995. С. 50.
- Они сохранили достоинство и честь. С. 7.
- Они унесли с собой Россию... Русские художники-эмигранты во Франции, 1920-е -1970-е. М., 1995.
- Грей М. Мой отец генерал Деникин. М., 2003.
- Москва -Берлин... С. 165.
- Русское зарубежье: Хроники... Т. 1. С. 27.
- Там же. С. 53.
- Там же. С. 59.
- Там же. С. 92.
- Там же. С. 316.
- Там же. С. 385.
- Там же. С. 519.
- Русский альманах: Справочник. Париж, 1930. С. 257.
- Россия (Париж). 1930. № 1.
- Россия. 1930. № 6. С. 36.
- Русский календарь-альманах...
- Русское зарубежье: Хроники... Т. 2. М., 1995. С. 163.
- ГА РФ. Ф. 5785. Оп. 1. Д. 8. Л. 123.
- Русские в Праге, 1918 -1928 гг. Прага, 1928. С. 125.
- Русское зарубежье: Хроники... Т. 2. С. 255.
- Там же. С. 263.
- Там же. С. 297.
- Там же. С. 318.
- Там же. С. 320.
- Там же. С. 324.
- Русское зарубежье: Хроники... Т. 3. М., 1996. С. 43.
- Там же. С. 103.
- Там же. С. 117.
- Там же. С. 153.
- Там же. С. 168.
- Русский Париж. М., 1998. С. 277.
- Русское зарубежье: Хроники... Т. 1. С. 443.
- Русская земля: Альманах для юношества (Ко дням русской культуры). Париж, 1928.
- Косик В.И. Указ. соч. С. 156-159.
- Мелихов Г.В. Белый Харбин... С. 305.
- Русское искусство за рубежом: Художественное собрание Русского культурно-исторического музея при Русском свободном университете в Праге. Прага; Рига, 1938.
- Иллюстрированная Россия (Париж). 1938. № 43 (701). С. 12-13.
- ГА РФ. Ф. Р-5850. Оп. 1. Д. 4. Л. 27 об.
- Там же. Л. 98об.
- Русский Берлин. С. 217.
- РГАЛИ. Ф. 2474. Оп. 1. Д. 18. Л. 17.
- Морской журнал (Прага). 1929. № 3. С. 17.
- Войнюш (Александрова) О.К. Воспоминая о жизни//Русская Атлантида. 2004. № 13. С. 49.
- Свистунов А.С. На волне моей памяти или прогулка по «Русской Атлантиде»//Русская Атлантида. 2004. № 13. С. 65.
- Челышев Е.П. Российская эмиграция: 1920 -30-е годы: История и современность. М., 2002. С. 178.
- Шлегель К. Указ. соч. С. 182.
- Издательское и библиографическое дело русского зарубежья (1918 -1998). СПб., 1999. С. 12.
- ГА РФ. Ф. 7030. Оп. 1. Д. 20. Л. 9.
- Русское искусство за рубежом... С. 18.
- Известия ОИМК (Харбин). 1926. № 6. С. 5-10.
- Мелихов Г.В. Российская эмиграция в Китае (1917 -1924 гг.). М., 1997. С. 233.
- Иоголевич П. Юбилейная выставка КВЖД//Экономический вестник Маньчжурии. 1923. № 25. С. 20 -26.
- ГА РФ. Ф. Р-6081. Оп. 1. Д. 163-171.
- Косик В.И. Указ. соч. С. 166.
- Левошко С.С. Русская архитектура в Маньчжурии: Конец XIX -первая половина XX века. Хабаровск, 2003. С. 13, 154.
- Там же. С. 16.