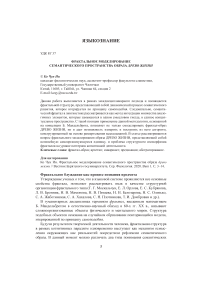Фрактальное моделирование семантического пространства образа древо жизни
Автор: Ко Чун Ин
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
Данная работа выполняется в рамках междисциплинарного подхода и посвящается фрактальной структуре, представляющей собой динамический процесс семантического развития, которое итерируется по принципу самоподобия. Следовательно, семантический фрактал в лингвистике рассматривается как метод интеграции множества аналогичных элементов, которые замыкаются в одном смысловом гнезде, в единое концептуальное пространство. С такой позиции применение данной методологии, основанной на концепции Б. Мандельброта, позволяет не только смоделировать фрактал-образ ДРЕВО ЖИЗНИ, но и дает возможность измерить и построить из него алгоритм, конструированный на основе развертывания высказываний. В статье рассматриваются вопрос фрактального моделирования образа ДРЕВО ЖИЗНИ, представляющий собой нелинейную самоорганизующуюся единицу, и проблема структурного изоморфизма фракталов на уровне паттернов когнитивной деятельности.
Фрактал-образ, архетип, инвариант, предикация, абстрагирование
Короткий адрес: https://sciup.org/148317736
IDR: 148317736 | УДК: 81’37
Текст научной статьи Фрактальное моделирование семантического пространства образа древо жизни
Ко Чун Ин. Фрактальное моделирование семантического пространства образа древо жизни // Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. Филология. 2020. Вып 1. С. 3–14.
Фрактальное блуждание как процесс познания предмета
Утверждение ученых о том, что в языковой системе проявляются все основные свойства фрактала, позволяет рассматривать язык в качестве структурной организации фрактального типа (Г. Г. Москальчук, Е. Л. Орлова, Е. С. Кубрякова, Л. В. Бронник, Н. В. Мамонова, Н. В. Пятаева, Н. Н. Белозерова, Н. С. Олизько, С. А. Жаботинская, C. А. Хахалова, С. Н. Плотникова, Т. И. Домброван и др.).
В гуманитарных дисциплинах термином фрактал , введенным математиком Б. Мандельбротом в естественно-научный обиход в 60-х гг. XX в., называют сложноорганизованные объекты физического и ментального миров. Структура подобных объектов основана на случайном образовании повторяющейся модели, итерированной по принципу самоподобия.
Будучи результатом творческой деятельности человека, фрактальная структура в рамках когнитивных парадигм одновременно выступает как механизм осмысления окружающих нас реальностей посредством рефлексии семантического образа. В данный момент можно различать два типа понимания семантических фракталов: 1) семантический фрактал как метод познания дифференциальных и продуцированных суждений о данном предмете, причем развертывающиеся во множество аналогичных элементов суждения сохраняют общую идею [15, с. 151]; 2) семантический фрактал как смысловой инвариант; как отмечает Е. Ю. Муратова, в лингвистике под семантическими фракталами понимается как «группировка возможных смыслов вокруг смыслового инварианта. Основная функция фракталов в языке — удерживать возможные смыслы одной фразы в пределах некоторой мыслимой целостности» [12, с. 28].
Таким образом, расширение диапазона одного высказывания приводит к производству нового смысла, рождению нового подтекста, возбуждению языковой игры. Как замечает В. В. Тарасенко, «процесс познания — это процесс блужданий языковых игр и экспериментов, хаотичность которых дает возможность настроить, сфокусировать образ объекта познания, превратить его в понимание. Фрактальное блуждание и есть хаотическая структура этих когнитивных движений» [22, с. 124]. При таком понимании когнитивного процесса ученый выделяет два типа фрактальных блужданий в языке в зависимости от дифференциации образа и слова, познания-как-видения и познания-как-разговора. Первый тип фрактального блуждания — это уже сформированная семантическая интерпретация, которая имеет дело с заданным паттерном, а второй тип — это неосознанный образ, который активизируется при поиске новых знаковых описаний и семантических пониманий [22, с. 125].
Чтобы обосновать связь между исследуемом образом и предписанной фрактальностью действия, дальше в данной работе мы будем рассматривать способы развертывания заложенного в него смысла в когнитивном механизме.
Семантический инвариант образа древа жизни
Образ древа широко воспринимается в разных сферах деятельности. Область их применения охватывает такие аспекты, как: 1) социально-культурную сферу, туда вошли условное изображение идея конкретного учреждения (в том числе эмблемы издательств, образовательных учреждений, логотип компаний, обложки печатных изданий), мифологическое понятие и концепция вероучения ( Мировое древо , Древо Жизни , Древо Добра и Зла , Древо Сефирот и т. д.) и семейное родословие (так называемое генеалогическое древо ); 2) научный способ репрезентаций знаний ( дерево языков , дерево классификации , фамильное древо неорганических веществ , древо Порфирия ). Подобная реальность позволила ограничить круг наиболее значимых вопросов, обусловленных теоретической базой, предпринимаемой в настоящей работе: во-первых, в чем заключаются закономерности семантического инварианта; во-вторых, по каким принципам организуются паттерны развития семантики; в-третьих, какую роль в структурировании образа выполняет контекст.
Согласно трактовке лексикографических источников, значение данного слова переадресовано слову дерево и можно сформулировать значение слова древо как устаревший вариант слова дерево с церковнославянским происхождением. При этом следует отметить, что во внутренней форме слова древо наблюдается метонимический сдвиг, зафиксированный в словарях, среди них выделены следующие инварианты лексемы: 1) переносное наименование другого вида растения: розовый куст [19, с. 734]; 2) то, что получаемое или добываемое из дерева: доска, дрова, колья [там же]; 3) графическое или символическое изображение в виде дерева [4, с. 283].
Следует заметить, что в Толковом словаре русского языка под редакцией С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой приведена такая дефиниция древа жизни : «сама жизнь, само существование» [14]. Не проявляясь в исследуемом словосочетании, основное значение слова древо метафорически разворачивается в культурно-обусловленном коммуникативном сценарии. Иными словами, лексема древо употребляется в денотативном значении и в качестве маркировки рассматриваемой языковой единицы выступает стилистическая окраска.
Ю. С. Степанов в парасловии к работе В. В. Тарасенко отмечает, что фрактал — наивысшая категория обобщения, в его синонимический терминологический аппарат включены Семиотика, Итерация, Асимптота. Кроме того, к этому ряду ученый прибавил еще один сюжет – стиль и приводит итеративное и кумулятивное определение стиля [22, с. 227]. Стиль — это методика, которая заставляет учитывать источники идей и обеспечивает целостность концепции [20, с. 22], но он не касается других экземплификаций1, поскольку стиль — национальные особенности речи представляет собой «неотъемлемый признак нации, характеризующейся общностью языка, психического склада, жизни и культуры» [21, с. 14]. Поэтому национальная норма должна описываться по всем параметрам — личности, времени и деятельности, в соответствии с этим положением языковые знаки являются осмысленными только при целостном раскрытии их смысловой размерности. Исходя из сказанного, Ю. С. Степанов утверждает, что стиль есть фрактал [22, с. 228].
Итак, в качестве объекта исследования нелинейного словосочетания мы приводим номинативную единицу древо жизни , особо выделенное из эдемских деревьев и, наряду с древом познания добра и зла, представляющее собой мотивированный библейский сюжет. В Книге Бытия древо жизни упоминается как образ вечной жизни. По словам В. Н. Топорова, асимметричность этого универсального знакового комплекса объясняется тем, что «само древо жизни нередко обладает способностью отражать не только положительный член противопоставления (жизнь), но и отрицательный. Именно образ дерева смерти несравненно менее распространен, чем образ древо жизни» [23, с. 315]. Можно утверждать, что рассматриваемый оборот, прирастая амбивалентностью в языковом сознании, реализует свой универсальный предметный код, заложенный в высшем образе потерянного рая. В Откровении древо жизни оказывается семантически варьируемым за счет отсылки к высшему образу будущей славы и возвращенного рая, влекущему за собой надежду: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами (Откр. 22:14).
Помимо этого, образ древа жизни соотнесен с упомянутыми в Книге Притчей метафориками, такими как мудрость — древо жизни для тех, которые приобретают её (Притч. 3:18); праведность — плод праведника — древо жизни (Притч. 11:30); доброта — Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание — как древо жизни (Притч. 13:12); кротость — Кроткий язык — древо жизни, но необузданный — сокрушение духа (Притч. 15:4) и т. д. Эти понятия соединяет древо жизни с высшим образом благословения, через которое мы видим переходные связи с образом светильника скинии.
Таким образом, рассматриваемый образ как неисчерпанный семиозис построен на базе инвариантных представлений, которые выражают всю сложность его смысловой структуры и связи между знаком и тем, что он обозначает.
Предикация архетипа как начальная фаза 2 второго блуждания
В системе языка фрактальность может быть обнаружена на уровне архетипов смысла3 в виде пропозиции — логического отношения любого предложения, а на уровне высказывания она возводится к структурной схеме синтаксической связи. Основному паттерну познавательного процесса, по словам Т. И. Домброван, следует фундаментальная субъектно-предикатная структура, которой свойственны способности к свертыванию информации о предметно-признаковой среде и к включению других структур предикации в механизм рекурсивной мыслительной деятельности [8, с. 157–165].
Предикация должна трактоваться как ментальный акт, предшествующий порождению внешней речи, в которой могут отображаться средства предметноизобразительного кода — кода внутреннего программирования [9, с. 73]. В основе внутреннего программирования лежит «образ, которому приписывается некоторая смысловая характеристика. Эта смысловая характеристика и есть предикат к данному элементу. А вот что происходит дальше — зависит от того, какой компонент является для нас основным» [10, с. 115]. Итак, синтаксическая смысловая корреляция свидетельствует об имплицитном выражении компонентов предикативного отношения, соответствующегобазовым параметрам коммуникативной ситуации.
При анализе словосочетания древо жизни устанавливаются предикативные отношения, которые выражают интегральные связи с другими словами-понятиями или группами слов и абстрагируют признаки субъекта. Подобное сближение двух отношений П. Рикёр называет предикативной ассимиляцией, суть которой заключается в сводимых метафорическим высказыванием сходных термах [16, с. 421]. На уровне смысла метафора рассматривается, скорее, как акт предикации, а не отклоняющееся называние. Метафорический процесс с учетом расщепленной референции способствует когнитивному измерению нового согласования в структурной аналогии [16, с. 433]. Схема предикативной структуры выводится следующим образом.
Схема 1. Фрактальный архетип смысла «блаженная причастность к Древу Жизни»
Устойчивый оборот древо жизни помечен как архетип посредством имплицитного соотношения с призывом Господним приобщаться Источнику жизни — Самому Творцу. Заполняя смысловые слоты, функции релята данного образа применяются к референту аргумента Бог. Посредством сведения к элементам-признакам смысловой схемы соединение с Божеством реализуется в причастности к сущности Бога.
-
1) ДРЕВО ЖИЗНИ — СОЗЕРЦАНИЕ . Божественная близость представлена в качестве аргумента по отношению к образу ДРЕВО ЖИЗНИ, за которым стоит характеристика внутренней энергии жизни: По мысли преподобного Иоанна Дамаскина, источником райского блаженства Адаму служил только один сладчайший плод — созерцание Бога , по достоинству названное Древом Жизни. Так что под образом Древа Жизни, которое росло посреди рая (Быт. 2, 9), святые отцы понимают приобщение человека жизни Божественной (Митрополит Калужский и Боровский Климент. Какого сорта плоды Древа Жизни?).
-
2) ДРЕВО ЖИЗНИ — ЛЮБОВЬ . В систему образа ДРЕВО ЖИЗНИ вводят одно из имен Божиих, отражающее одну из Его сущностей – любовь. Здесь уместно упоминают о выражении Бог есть любовь , обозначающем божественное бытие: Райское блаженство, говорит Исаак Сирин, заключается в приобщении человека к любви Божией , которая есть «древо жизни» и «хлеб небесный», то есть Сам Бог (Митрполит Иларион (Алфеев). Православие Т. 1).
-
3) ДРЕВО ЖИЗНИ — ПОКАЯНИЕ . Как показывает предыдущий пример, связь между людьми и Богом, в частности, осуществлялась посредством приношения пищи Богу. В соответствии с этим, в образе ДРЕВО ЖИЗНИ открывается признак “ покаяние ”, сопровождающийся с искренним желанием получить прощение: Истинное покаяние «приносит Богу доблестные дела». Это плодородное поле, ибо «во всякое время» возделывается. Это «древо жизни», ибо воскрешает умерших грехами (Профессор К. Е. Скурат. Наставления великих учителей церкви).
-
4) ДРЕВО ЖИЗНИ — МОЛЧАНИЕ . Опираясь на образ приношения, следующий контекст придает рассматриваемому образу новый когнитивный фон, в качестве которого выступает признак “ молчание ”: … Истребительница сластолюбия, и вместо смеха в плач приводящее стяжавшего тебя!.. Враг бесстыдства и ненавистница дерзости!.. Всегдашнее приятелище Христа!.. Узилище страстей! О, безмолвие и молчание — село Божие и древо жизни, приносящее благие плоды! (Монахина Феодора. Из Послания монаха Исаии к благороднейшей монахине Феодоре).
Схема 2. Фрактальный архетип смысла «вкушение от Древа Жизни»
Во внутренней форме номинативной единицы древо жизни сохраняется высший идеал образа жизни. Этический смысл акта вкушения устанавливает границу неповиновения и ярко показывает асимметричность концептуальной дихотомии ДОБРО — ЗЛО, ЖИЗНЬ — СМЕРТЬ. К архетипу смысла «вкушение от древа жизни» относятся следующие имплицитные смысловые признаки.
-
1) ДРЕВО ЖИЗНИ — РАЙ . Семантическое значение древа жизни может быть выражено лексической единицей рай , с которым связана духовная и чувственная природа человечества: Наконец, земная жизнь завершается разлучением души и тела с полным истлением последнего. Господь произнес приговор: «Возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься» (Быт. 3:19). Люди изгоняются из Рая , отныне доступ к древу жизни им закрыт (Священник Валерий Духанин. Сокровенный мир Православия). В связи с этим тот, кто постигает богопознание — тот достигает Царства Небесного: Бывает на море, когда судну нужно стать на месте , то бросают якорь в воду, и он, уцепившись за землю, с великою силою притягивает к себе судно и держит его крепко, никак не попущая отойти от себя, хотя бы ветер и волны били его, – так и здесь: как только сердечная сила соединится с именем Господним, ощутивши в нем Божественную силу или, вернее, Самого Господа, тотчас в сердце человека водружается древо жизни , от коего изгнан был Адам преслушания ради (Митрополит Иларион (Алафеев). Священная тайна Церкви).
-
2) ДРЕВО ЖИЗНИ — НЕБЕСНЫЙ ИЕРУСАЛИМ . Образ ДРЕВО ЖИЗНИ может быть соотнесен с эсхатологической надеждой, которая сопровождается приобщением к новому небу, новой земле, новой жизни: И единственный «предмет» рая ветхого, Эдема, перешедший в рай новый, Небесный Иерусалим , – древо жизни (см.: Быт. 2, 9; Апок. 22, 2), — только подчеркивает превосходство нового рая (Священник Максим. Религия Креста и религия полумесяца).
Схема 3. Фрактальный архетип смысла «путь к Древу Жизни»
В образе ДРЕВО ЖИЗНИ отражаются глубокие размышления на основополагающие этические темы о страданиях Богочеловека. Вертикальное направление ветвей древа изображает жизнь как передвижение горизонта человеческого существования по пути, которая связывается с самим спасением. В результате анализа выделены следующие компоненты:
-
1) ДРЕВО ЖИЗНИ — ХРИСТОС . Отсылка к апогею признака “ Спаситель мира ” — “ Истинная жизнь ” формирует фоновые знания для образа ДРЕВО ЖИЗНИ: Важное средство в деле спасения есть крестная смерть Богочеловека. Это как бы в сокращении все дело Господа нашего Иисуса Христа, «главизна нашей веры». «Спасение миру – Сын от Отца; спасение миру – крест от Сына». Блага креста Христова велики и неизмеримы. Христос есть древо жизни, а кровь и вода из Его ребра — плод. Язва Его — наше исцеление; наказание Его — наш мир; бесславие Его — наша слава (Профессор К. Е. Скурат. Сотериология святого Афанасия Великого).
-
2) ДРЕВО ЖИЗНИ – КРЕСТ . В первую очередь, признак “ крест ” в образе ДРЕВО ЖИЗНИ отождествляется со страдательным путем Христа, коррелируемым со смертью на кресте: Древо жизни — это древо Креста , жизнь — это Христос
(Ин. 14:6). Плоды древа — пречистая плоть Богочеловека. Если в ст. 2,7 было подробно разъяснено вкушение от этого древа в земной Церкви. То теперь мы видим, что и в вечность перейдет это таинственное вкушение (Протоиерей Геннадий Фаст. Толкование на Апокалипсис). Благодаря смиренному вкушению страданий в образе древа жизни раскрывается сила и мудрость Бога: Древо жизни — это Крест Господень . Когда мы крестимся в христианство, то мы сочетаемся со Христом, то есть мы сораспинаемся с Ним (Протоиерей Олег Стеняев. Беседы на Апокалисис).
Таким образом, ряд семантических признаков, связанных с образом ДРЕВО ЖИЗНИ, охватывает значительную часть образной системы. Важным представляется тот факт, что указанные признаки имеют между собой устойчивую семантическую связь, лежащую в основе предпосылки абстрактного мышления.
Абстрагирование как вторичное формирование образа ДРЕВО ЖИЗНИ
В лингвистических исследованиях понятие «инвариант», которое утвердилось благодаря И. А. Бодуэну де Куртенэ в фонологии, переносится на другие уровни языковой системы, в частности, на более абстрактный уровень. Представляя «элемент абстрактной системы языка в отвлечении от ее конкретных реализаций», инвариант в определении О. С. Ахмановой относится к абстрактным сущностям отдельных единиц, характеризующихся общими чертами вариантных семантических признаков [1, с. 176]. С позиций онтологии В. М. Солнцевым было высказано утверждение: «Свойство инвариантности характеризует то общее, что есть у данного единичного предмета с другими ему подобными. Вариативность характеризует то особенное, что есть только у данного предмета в отличие от других ему подобных, с которыми он связан через свои инвариантные свойства» [18, с. 217]. С точки зрения функциональной грамматики, как отмечает А. В. Бондарко, инвариант рассматривается как «признак или комплекс признаков изучаемых системных объектов (языковых и речевых единиц, классов и категорий, их значений и функций), который остается неизменным при всех преобразованиях, обусловленных взаимодействием исходной системы с окружающей средой» [5, с. 5].
Исходя из приведенных аргументов, следует почеркнуть, что в процессе отождествления и дифференциации могут появляться возможные признаки, при этом семантический инвариант не противоречит множеству вариантов или модифицируемых значений, которые интерпретируются в разных контекстах. Применение фрактального подхода к рассмотрению самоподобных структур образа и их когнитивных интерпретаций лежит в основе абстрагированной информации. Благодаря механизму абстрактного семантического аттрактора, формирующегося на основе доминантного смысла предмета и явления, формальное подобие структуры может приближаться к сути слова. Напомним лишь об ограничении теоретического положения, что в науке абстрагирование как метод познания объекта, не апеллируя к порождению новой структуры, лишь фиксирует наличие или отсутствие тех или иных свойств.
Используя понятие интерпретации для того, чтобы моделировать понимание речи и ее связей между объектом во внешнем мире и психикой субъекта, В. З. Демьянков определяет это понятие как параллельную деятельность. Происходит, с одной стороны, увязка данного текущего выражения с предшествующими и последующими выражениями того же текста, и с другой стороны, 9
увязка знаний, извлекаемых из выражений с текущим и меняющимся запасом знаний интерпретатора [7, с. 6].
Следовательно, здесь речь идет не столько о соотношении лингвистического фактора и развертывании знания на микроуровне, сколько о его механизме репрезентации рефлексивного знания на мезо- и мегауровнях. Как пишет Н. Н. Болдырев, «языковая интерпретация — это познавательная активность, которая в своих результатах направлена на понимание и объяснение человеком мира и себя в этом мире и которая основана, с одной стороны, на коллективных знаниях о мире, и, с другой стороны, на индивидуальном, в том числе языковом, опыте взаимодействия человека с этим миром» [2, с. 328].
В рамках фрактальной семиотики полагается, что под отношением между инвариантом и вариантом подразумевается не дихотомическое противопоставление, а взаимообусловленное действие. Такое положение основано на следующих принципах: с одной стороны, инварианты отражают более общие свойства объектов, а варианты — они как гетерогенные элементы представлены на разных архаических слоях абстракции и объединены за счет родовидовой связи признаков, которые носят системный и закономерный характер. Их асимметрическая корреляция ведет к возможному нарушению симметрии — с другой.
Именно по этим принципам в качестве материала для решения заданных задач были выбраны разножанровые православные тексты с интерпретационным характером, такие как статья «Древо жизни» в труде протоиерея Стефана Лящевского «Библия и наука о сотворении мира», лекция отца Андрея Ткачева «О Кресте. Древо Жизни. Основание мира, символ христианства или религиозный атрибут», текст, рассчитанный на описание значения иконы Древа Жизни (другое название образа — Спас Истинная Лоза), и, наконец, рекламный текст данной иконы. Метод моделирования рассматриваемого образа заключается в анализе и проведении классификации языкового материала. В итоге применение данного метода позволило выявить механизм самоструктурирования данного образа в целом. Результаты анализа упорядочены по принципам категоризации, предлагаемым в Большом толковом словаре русских существительных под общей редакцией Л. Г. Бабенко [3] (см. таблицу).
Таблица
Градация категориального поля образа ДРЕВО ЖИЗНИ в исследуемых текстах
|
Статья Прот. Стефана Лящевского |
Лекция отца Андрея Ткачева |
Текст об иконе «Древо Жизни» |
Рекламный текст |
|
|
к ч ф R а © н л й л К © а © &5 |
РЕЛИГИЯ 29 % |
РЕЛИГИЯ 49 % |
РЕЛИГИЯ 40 % |
РЕЛИГИЯ 42 % |
|
Адам (5), рай (3), бессмертие (2), церковь (2), благоговение (1 — далее), верующий, заповедь, мистерия, образ, отцы, песнопение, праздник, рождество, тело Христово, херувим, храм |
крест (11), крыло (8), Исаия (7), ангел (3), Бог (2), Серафим (2), господь (2), Соломон (2), Моисей (2), пророк (2), Христос (1), рай (1), крестоборцы (1) |
икона (5), Христос (3), церковь (2), спаситель (2), апостол (2), Иоанн (2), Адам (1 — далее), бессмертие, Богородица, Господь, Ева, Евангелия, Евхаристия, Иисус, образ, Откровение, рай, спас, христианин |
образ (11), икона (9), вера (6), Бог (4), спаситель (4), отец (3), иконостас (3), православие (3), апостол (2), Иисус (2), верующий (1), храм (1) |
|
Статья Прот. Стефана Лящевского |
Лекция отца Андрея Ткачева |
Текст об иконе «Древо Жизни» |
Рекламный текст |
|
|
№ Ч Ф R Ф Ф М -Q Ч Л S а Ф ф н л й л м ф м К л м а ф ч: W |
РАСТЕНИЕ 16 % |
ЖИВОЕ СУЩЕСТВО 15 % |
РАСТЕНИЕ 26 % |
РАСТЕНИЕ 15 % |
|
древо (8), лист (3), плод (3), дерево (3), яблоко (2), дуб (2), ствол (1) |
жизнь (4), человек (3), нога (2), лицо (2), мальчик (1), девушка (1) |
дерево (7), лоза (4), ветвь (3), древо (2), лист (2), плод (1) |
дерево (7), лоза (4), ветвь (2), ствол (2), древо (2), каштан (1) |
|
|
ЖИВОЕ СУЩЕСТВО 17 % |
ЖИВОЕ СУЩЕСТВО 13 % |
ЖИВОЕ СУЩЕСТВО 11 % |
||
|
жизнь (12), человек (2) |
жизнь (4), человек (4), рука (1) |
жизнь (9), человек (2), сила (2) |
||
|
ИНТЕЛЛЕКТ 11 % |
||||
|
вариант (1 — далее), версия, имя, мнение, название, слово, строка, фраза |
||||
|
К ф R Ф Ф М -Q Ч Л S а ф ф н й м ф м к л м а ф № S а К |
ПИТАНИЕ 7 % |
РАСТЕНИЕ 6 % |
ИСКУССТВО 7 % |
|
|
пища (4), хлеб (2) |
древо (3), дерево (1), плод (1) |
сюжет (2), фигура (2), голова (2), тематика (1), размер (1) |
||
|
ВРЕМЯ 6 % |
ФОРМА 6 % |
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 4 % |
||
|
тысячелетие (2), вечность (1), день (1), конец (1) |
форма (4), крестовина (1) |
коллектив (2), внимание (1), подарок (1), учреждение (1) |
||
|
ЭМОЦИЯ 5 % |
ВЕЩЕСТВО 5 % |
ЯВЛЕНИЯ И СОБЫТИЕ 4 % |
||
|
плач (4) |
вещество (2), вещь (2) |
основа (3), смысл (2) |
||
|
ИНТЕЛЛЕКТ 4 % |
ИНТЕЛЛЕКТ 5 % |
|||
|
память (2), мнение (1) |
глава (3), книга (1) |
|||
|
ПРОСТРАНСТВО 4 % |
ТРАНСПОРТ 5 % |
|||
|
путь (2), небо (1) |
мачта (2), парус (2) |
|||
|
к ф R а ф н я ее Я ф м а ф ■е а ф К |
НАЦИИ 1 % |
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 3 % |
ОБРАЗОВАНИЕ 3 % |
ИНТЕЛЛЕКТ 3 % |
|
народ (1) |
мир (2), козни (1) |
ученик (2) |
символ (3), вариант (1) |
|
|
НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 1 % |
ВОЕННАЯ СЛУЖБА 2 % |
ЯВЛЕНИЕ И СОБЫТИЕ 3 % |
ВЕЩЕСТВО 1.7 % |
|
|
огонь (1) |
весло (1), копье (1) |
происхождение (1), смысл (1) |
металл (1), золото (1) |
|
|
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 1 % |
НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 2 % |
ВРЕМЯ 1 % |
ОБРАЗОВАНИЕ 1.7 % |
|
|
мир (1) |
мрамор (1), глина (1) |
время (1) |
ученик (2) |
|
|
ПРЕДМЕТ 1 % |
ИСКУССТВО 1 % |
ПРОСТРАНСТВО 1.7 % |
||
|
прут (1) |
композиция (1) |
полнота (2) |
|
Статья Прот. Стефана Лящевского |
Лекция отца Андрея Ткачева |
Текст об иконе «Древо Жизни» |
Рекламный текст |
|
|
я ч ф Я Ф Ф Я Я Ч Л Я а ф ф н л я л я ф м я я я >s я а -е я © К |
ПРОИЗВОДСТВО 1 % |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 % |
СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 1.7 % |
|
|
работа (1) |
сад (1) |
магазин (2) |
||
|
СТРОИТЕЛЬСТВО 1 % |
ПРАВО 1.7 % |
|||
|
основание (1) |
закон (2) |
|||
|
УПРАВЛЕНИЕ 0.8 % |
||||
|
кабинет (1), руководитель (1) |
||||
|
КОЛИЧЕСТВО 0.8 % |
||||
|
ассортимент (1) |
||||
|
ПРЕДМЕТ 0.8 % |
||||
|
ячейка (1) |
||||
|
РАЗВЛЕЧЕНИЕ 0.8% |
||||
|
коллекционер (1) |
Проведенный анализ показывает, что в образе ДРЕВО ЖИЗНИ, во-первых, существует креативный аттрактор4 — доминантный смысл речевых произведений. В них общими доминирующими повторяющимися категориями являются РЕЛИГИЯ, РАСТЕНИЕ, ЖИВОЕ СУЩЕСТВО, которые объединены в ядерную зону категориального поля (за исключением текста отца Андрея Ткачева, в котором категория РАСТЕНИЕ составляет 6%, поэтому попадет в приядерную зону). Во-вторых, для исследуемого образа характерна высокая доля категории РЕЛИГИЯ (у прот. Стефана Лящевского составлено 29%, у отца Андрея Ткачева — 49%, в тексте об иконе «Древо Жизни» — 40%, в рекламном тексте — 42%), хотя доли категориального построения отдельного текста имеют свой порядок очередности. В-третьих, в процессе анализа лексических данных обнаружено наличие собственных высокоупотребительных лексем с учетом целеполагания отдельных рассматриваемых текстов, например, в работе прот. Стефана Лящевского встречаются жизнь (12 раз), древо (8); у отца Андрея Ткачева — крест (11), крыло (8); в тексте об иконе «Древо Жизни» – дерево (7), икона (5); в рекламном тексте — образ (11), икона (9), жизнь (9). В-четвертых, под воздействием внутритекстовых флуктуаций формируются приядерная и периферийная зоны в хаотичном порядке. В каждом тексте выделены свойственные ему особенности уникальных категорий: в статье прот. Стефана Лящевского наблюдаются категории ЭМОЦИЯ, НАЦИИ; в лекции отца Андрея Ткачева — ВОЕННАЯ СЛУЖБА, ПРОИЗВОДСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВО, ТРАНСПОРТ, ФОРМА; в тексте об иконе «Древо Жизни» — СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО; в рекламном тексте — КОЛЛЕКТИВ, КОЛИЧЕСТВО, ПРАВО, РАЗВЛЕЧЕНИЕ, СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ.
Выявленная концептуальная интеграция, построенная на основе доминантного смысла, пронизывает структуру текста в целом. А. Ф. Лосев в книге «Знак, символ, миф» пишет: «Каждый языковой знак есть акт интерпретации как соответствующих моментов мышления, так и соответствующих моментов действительности» [11, с. 96]. Действительность здесь выступает как возможные варианты категориальных значений в отдельно взятой речевой деятельности и во многом определяется законом и структурой сознания интерпретатора.
Заключение
Изучение фрактального моделирования образа ДРЕВО ЖИЗНИ позволило сделать следующие выводы.
-
1. Фрактальный подход позволяет увидеть сложное устройство семантического пространства и разнородность дрейфа языковых значений, происходящего за счет экспликации абстрактного архетипа нашего сознания. Следует отметить, что исследуемые тексты подвергаются модификации на разных фазовых переходах становления, выделенные метаморфозные лингвистические единицы служат в тексте индикатором стилистических характеристик моделей таких паттернов мышления, как «блаженная причастность к Древу Жизни», «вкушение от Древа Жизни» и «путь к Древу Жизни».
-
2. Проведенный анализ показывает, что построение языковой формы образа древа обеспечивается за счет набора симметрических (повторяющихся) языковых знаков, что составляет 72%, и асимметрических (неповторяющихся), составляющих 28%. Этот языковой факт свидетельствует о нелинейной природе данного образа.
-
3. Помимо этого, в анализируемом фактическом материале выявлены нами интерпретирующие формы знания, лежащие в основе асимметричной структуры древа жизни. Интерпретационные компоненты суммируются в общих понятийных категориях, как РЕЛИГИЯ, РАСТЕНИЕ, ЖИВОЕ СУЩЕСТВО. Наряду с ними в структуре аккумулируются разнообразные категории, сводимые к единству системы под влиянием доминантного смысла.
Настоящая работа выполнена при поддержке Министерства науки и технологий (Тайвань), грант № MOST 107-2410-H-004-132.
Список литературы Фрактальное моделирование семантического пространства образа древо жизни
- Ахманова О. С. Словарь лингвистическая терминов. М.: Едиториал УРСС, 2004. 569 с.
- Болдырев Н. Н. Язык и система знаний. Когнитивная теория языка. М.: ИД ЯСК, 2019. 480 с.
- Большой толковый словарь русских существительных: Идеографическое описание. Синонимы. Антонимы / под общ. ред. Л. Г. Бабенко. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. 864 с.
- Большой толковый словарь русского языка / под общ. ред. С. А. Кузнецова. СПб.: Норинт, 2000.
- Бондарко А. В. Инварианты и прототипы в системе функциональной грамматики // ПФГ: Семантическая инвариантность/вариативность. СПб.: Наука, 2003. С. 5–36.
- Герман И. А., Пищальникова В. А. Введение в лингвосинергетику: монография. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1999. 127 с.
- Демьянков В. З. Интерпретация, понимание и лингвистические аспекты их моделирования на ЭВМ. М.: Изд-во МГУ, 1989. 172 с.
- Домброван Т. Лингвосинергетика: Язык как синергетическая система. Saarbrücken: LAP LAMBERT, 2014. 308 с.
- Дымарский М. Я. Протодейксис, предикация и состав предикативных категорий высказывания // Проблемы функциональной грамматики. Предикативные категории в высказывании и целостном тексте. М.: ИД ЯСК: Языки славянской культуры, 2017. С. 57–85.
- Леонтьев А. Н. Основы психолингвистики. М.: Смысл; ИЦ «Академия», 2005. 287 с.
- Лосев А. Ф. Знак, символ, миф: труды по языкознанию. М.: Изд-во МГУ, 1982. 480 с.
- Муратова Е. Ю. Языковые средства выражения аллотропичности русского поэтического текста: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Архангельск, 2014.
- Николис Дж. С. Хаотическая динамика лингвистических процессов и образование паттернов в поведении человека. Новая парадигма селективной передачи информации // Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов. М.: Прогресс Традиция, 2000. С. 426–433.
- Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: А ТЕМП, 2006.
- Петряков Л. Д. Методологические перспективы фрактальной семантики // Изв. вузов. Сер. Гуманитарные науки. 2017. Т. 8(2). С. 148–153.
- Рикёр П. Метафорический процесс как познание, воображение и ощущение // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 416–434.
- Смирнова А. Ю., Толочин И. В. Архетип в лингвистике: форма и содержание (на примере английского слова fire) // Мир науки, культуры, образования. 2016. № 4 (59). С. 214–219.
- Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование. М.: Наука, 1977. 341 с.
- Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1. СПб.: Типогр. Императ. акад. наук, 1893.
- Степанов Ю. С. Имена, предикаты, предложения (семиологическая грамматика). М.: Едиториал УРСС, 2004. 361 с.
- Степанов Ю. С. Французская стилистика (в сравнении с русской). М.: Едиториал УРСС, 2003. 359 с.
- Тарасенко В. В. Фрактальная семиотика: «слепые пятна», перипетии и узнавания. М.: ЛИБРОКОМ, 2012. 248 с.
- Топоров В. Н. Мировое древо: Универсальные знаковые комплексы. Т. 2. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2010. 496 с.