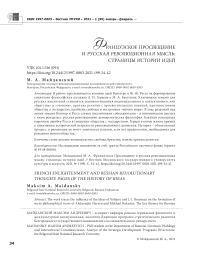Французское просвещение и русская революционная мысль: страницы истории идей
Автор: Майданский Максим Андреевич
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: История и теория культуры
Статья в выпуске: 1 (99), 2021 года.
Бесплатный доступ
В работе прослеживается влияние идей Вольтера и Ж.-Ж. Руссо на формирование социально-философских взглядов А. И. Герцена и М. А. Бакунина. Ключевыми темами для русских мыслителей становятся: взаимоотношения индивидуального и коллективного, или «братства» и «эгоизма», критика религии с просветительских позиций, противостояние общества и государства, проблема свободы и построения «нового мира». В ходе раздумий над этими темами Вольтер и Руссо служат постоянными собеседниками - в полемическом диалоге с ними рождалась русская революционно-демократическая философия. Бакунин усматривал коренную ошибку Руссо в смешении общества с государством. Герцен в конце жизни пришёл к пониманию исторической незрелости революционного движения. История - объективный процесс, и революции не могут увенчаться успехом, если нет предпосылок, необходимых для рождения нового общества.
Русское вольнодумство, свобода, братство, эгоизм, критика религии
Короткий адрес: https://sciup.org/144162045
IDR: 144162045 | УДК: 101.1:316 | DOI: 10.24412/1997-0803-2021-199-34-42
Текст научной статьи Французское просвещение и русская революционная мысль: страницы истории идей
К середине XIX столетия русское вольнодумство начинает оформляться в полноценное революционное движение. Подобно своим западным собратьям, esprits forts, русские вольнодумцы, образовали два расходящихся идейных течения: условные «вольтерьянцы» возлагали главные надежды на просвещение политических элит и реформы «сверху», условные «руссоисты» – на «всеобщую волю» и спонтанную революционную активность народных масс, движимых чувством социальной справедливости и иными возвышенными аффектами «сердца».
Признанными лидерами первой мощной волны революционного движения в России стали А. И. Герцен и М. А. Бакунин. Вряд ли можно сказать, что они представляют собой чистые типы вольтерьянства или руссоизма – уже потому, что оба кру-
Вольтер и Руссо – почти современники, а какое расстояние делит их!
Вольтер ещё борется с невежеством за цивилизацию – Руссо клеймит уже позором самую эту искусственную цивилизацию.
А. И. Герцен то меняли свои общественно-политические воззрения. При всех этих переменах, впрочем, оставался неизменным ряд принципов. Многие исследователи пытались выявить эти константы. Исайя Берлин усматривал общий для Герцена и Бакунина принцип в идее свободы личности [5]. Эта точка зрения не претендует на оригинальность, но излагается Берлиным с присущим ему сочетанием превосходного знания источников, солидной аргументации и писательского мастерства (выдающего герценовское влияние). В близком «либертарном» ключе проводит сравнение двух друзей-мыслителей современный историк и теоретик анархизма П. В. Рябов [12].
Не ставя под сомнение эту компаративную линию в общем и целом, мы сместим акцент исследования на критический диалог русской и западноевропейской мысли. Осями x и y координатной плоскости, на ко- торой разворачивался этот диалог, стали вольтерьянство и руссоизм, понятые в вышеуказанном смысле. Фигуры Герцена и Бакунина здесь имеют то преимущество, что они являют собой перекрестья культур: русской «почвы», с одной стороны, и традиций западного Просвещения, романтизма, гегельянства и, наконец, социализма – с другой. В отличие, скажем, от своего великого современника Н. Г. Чернышевского, Герцен и Бакунин полжизни прожили на Западе, имея возможность наблюдать эволюцию западноевропейской цивилизации изнутри. И не просто наблюдать – они принимали деятельное участие в самых ярких революционных событиях той эпохи, не говоря уже о личном общении, обмене мыслями с ведущими теоретиками и практиками революционно-демократического движения.
Хотя Вольтер и Руссо не входили в число главных учителей Герцена и Бакунина, тем не менее последние не раз обращались к творчеству французских «светочей» (les Lumières). Подобные обращения к перво-истокам всегда представляют интерес – в данном случае тем больший, что мы вступаем в практически не исследованную область истории идей.
Братство и эгоизм
На похоронах Герцена французский политик-социалист Пьер Малардье назвал его «Вольтером XIX века». У них с Вольтером действительно немало общих черт: иронический ум в сочетании с гуманистической пылкостью, превосходный литературный стиль, наконец, широта влияния на умы людей. Герцен, по его собственному признанию, ещё подростком начал читать Вольтера и «в первой молодости часто увлекался вольтерианизмом, любил иронию и насмешку» [7, ч. 1–5, с. 59].
В «Былом и думах» есть примечательный рассказ о споре Герцена с «якобинским старообрядцем» Луи Бланом; последний был «поклонником Руссо и в холодных отношениях с Вольтером». Луи Блан делил людей на поборников братства и эгоистов, призывая служить пользе общества и жить ради счастья людей. «Одесную – агнцы братства, ошуйю – козлы ячности и эгоизма. Эгоистам вроде Монтеня пощады нет, и ему досталось порядком» [7, ч. 6–8, с. 38].
Герцен возражал с вольтеровской усмешкой: счастье недостижимо, если все станут жертвовать и никто не будет наслаждаться. Легко представить себе такой же спор между Руссо и Вольтером, и он наверняка случался между Бакуниным и Герценом. Жертвуя собой, руссоисты часто готовы приносить в жертву общему благу также и других, не спрашивая у тех согласия. Герцен же по-вольтеровски высоко ценил автономию личности и учил уважать её и тогда, когда она напрямую не совпадает с общественным интересом. Необходимо искать консенсусы «братства» и «эгоизма», то есть коллективности и индивидуальности, не ущемляя ни одной из этих сторон.
Подробно эта коллизия осмысливается в работе «С того берега» (1855). Герцен доказывает, что эгоизм – тоже общественно выработанное и общественно значимое качество личности. Здоровая доля эгоизма нужна для того, чтобы не растворяться в коллективе. И сам коллектив перестаёт быть стадом, лишь когда в нём выделяются «лица» и совершается акт самосознания личности как относительно автономной единицы этого коллектива.
«Разумеется, люди – эгоисты, потому что они лица; как же быть самим собою, не имея резкого сознания своей личности? Лишить человека этого сознания – значит распустить его, сделать существом пресным, стёртым, бесхарактерным ... Проповедь индивидуализма разбудила, век тому назад, людей от тяжёлого сна, в который они были погружены под влиянием католического мрака. Она вела к свободе так, как смирение ведёт к покорности. Писания эгоиста Вольтера больше сделали для освобождения, нежели писания любящего Руссо – для братства» [10, с. 106].
Иными словами, по мысли Герцена, необходим органический синтез индивидуального и коллективного начал, личной свободы и сплочённости индивидов, и в этом синтезе личная свобода должна быть первична. Это герценовское решение очень напоминает знаменитую формулу Маркса и Энгельса из «Коммунистического манифеста» – свободное развитие каждого является условием свободного развития всех.
Герцен полемизирует с «моралистами», вроде Луи Блана и Армана Барбеса, осуждающими эгоизм как дурную привычку, от которой социалистический человек избавится благодаря чувствам братства и любви к человечеству. Столь же высоко ценя эти чувства общности, Герцен, однако, настаивает, что каждый человек должен свободно, без всякого принуждения или давления извне, вырабатывать их для себя. И если почувствовать общность с другими людьми не каждому удаётся – это его личное дело, его несчастье. Братство должно быть свободным выбором для каждого отдельного «брата». Диктат руссоистской «всеобщей воли» ведёт не к подлинному братству, а к насилию и гильотине. Таков горький урок Великой Французской революции. Вот почему для Герцена Вольтер всё-таки ближе, нежели Руссо.
«Дело просто в том, что эгоизм и общественность – не добродетели и не пороки; это основные стихии жизни человече- ской, без которых не было бы ни истории, ни развития, а была бы или рассыпчатая жизнь диких зверей, или стада ручных троглодитов ... Действительный интерес совсем не в том, чтоб убивать на словах эгоизм и подхваливать братство, – оно его не пересилит, – а в том, чтоб сочетать гармонически свободно эти два неотъемлемые начала жизни человеческой» [10, с. 106].
Если взглянуть сквозь эти герценовские очки на историю пролетарских революций XX века, начиная с Великой Октябрьской революции, то можно увидеть причину их исторической неудачи. Практически все они были дисгармоническими. В своём стремлении стереть с лица земли «буржуазный индивидуализм» они возвращались к худшим формам примитивного коллективизма и, разумеется, не выдерживали соперничества с обществами «капиталистической формации».
Правда, и сам Герцен не сумел разработать реалистичного проекта гармонизации личного и общественного начал. Его социализм остался, в сущности, благим пожеланием и философской фразой. Свои практические надежды Герцен связал с уходящей натурой истории – русской поземельной общиной. В западной цивилизации он разочаровался и разуверился, особенно после разгрома «Весны народов» – серии революций 1848 года в континентальной Европе. Не обнаружив на Западе эмбриона грядущего социалистического общества, Герцен обратил свой взор вспять, поддался романтике патриархально-общинного «мiра», которую прежде осмеивал в спорах со славянофилами.
Просвещение и религия
В самом начале своей революционной карьеры, в 1843 году, Бакунин, находясь на
«острове Руссо» в Швейцарии на Бильском озере, цитировал пророчества Вольтера о грядущей социальной революции, подчёркивая: «Сейчас французы – всё ещё наши учителя. В политическом отношении они опередили нас на столетия ... Мы должны догнать их» [3, с. 231].
Очевидно, Бакунин имел в виду не текущую политическую систему Франции, известную под названием «Июльская монархия», но гражданские свободы, завоёванные Великой Французской революцией. Мерой общественного развития для Бакунина, как и для Герцена, являлась степень «самоуправления народа». Их общественный идеал – целиком и полностью самоуправляемая коммуна, не нуждающаяся в особых, сверхличных институтах управления.
Что же требуется для перехода к такому обществу без государства? Таков главный вопрос, стоящий перед теоретиками анархизма, начиная с Бакунина (Прудон был терпим к государственному правлению, если оно осуществляется на принципах справедливости).
Ответ на этот вопрос выдаёт в молодом Бакунине наследника французских просветителей XVIII столетия. Основным условием возможности народного самоуправления является высокий культурный уровень народа, интеллектуальная и нравственная зрелость. Чем менее развит человек, тем сильнее он нуждается в руководстве «сверху».
Это правило относится не только к политической жизни, но и к общему мировоззрению людей. Верховным правителем мироздания первобытный человек часто назначал какого-нибудь небесного громовержца – Индру, Зевса или Перуна. Бог есть идеализованный Государь, «царство Божие» – идеализованное государство, очищен- ное воображением от минусов государства реального. Связь между монархическим режимом в политике и монотеистической религией не была секретом уже в античные времена. Пионеры «радикального Просвещения» атаковали идею Бога с не особо скрывавшейся целью – разрушения основ монархизма.
По этой дороге двигалась и мысль Бакунина. Идея Господа Бога рождается в уме слабого человека, не верящего в себя и не способного стоять на собственных ногах. Чем свободнее человеческий дух, тем меньше он нуждается в богах. На этом основании Бакунин разработал оригинальное «доказательство» небытия Божия .
«Если Бог есть, человек – раб. А человек может и должен быть свободным. Следовательно, Бог не существует» [1, с. 459]. «Ревниво влюблённый в человеческую свободу и рассматривая её как абсолютное условие всего, чему мы поклоняемся и что уважаем в человечестве, я перевёртываю афоризм Вольтера и говорю: если бы Бог действительно существовал, следовало бы уничтожить его ...» [1, с. 461].
Вольтер, как известно, утверждал, что если бы Бога не было, его следовало бы выдумать. Бог необходим для простонародья, черни, как узда для наихудших человеческих порывов. Когда воспитание и просвещение превратят каждого индивидуума в свободную, нравственную личность, тогда и отпадёт всякая надобность в идее Бога.
«Радикалы», как называет вольнодумцев-просветителей Бакунин, «специально работали над улучшением школы и развитием народного образования, ибо были убеждены, что народ сможет сам собою управлять лишь постольку, поскольку он является совершеннолетним и самостоятельным, и что только путём образования он может быть поднят до совершеннолетия и самостоятельности» [2, с. 235].
Бакунин, безусловно, ценит вклад Вольтера в революционное движение Просвещения, но не может простить ему дружеских связей с тиранами и пренебрежения к простому народу. В его работах встречаются такие эпитеты в адрес Вольтера, как «инстинктивный презиратель народных масс, глупой толпы». Это презрение к народу, роднящее Вольтера с королями и вельможами, возмущает бакунинскую натуру.
Замечания Герцена, как обычно, тоньше. Он именует Вольтера «привилегированным эманципатором», который, «умея кощунствовать над религией, оставался просто идолопоклонником своих вымыслов и призраков » [9, с. 191]. О каких призраках речь? На место религии реальной, церковной, Вольтер ставит какую-то выдуманную им и его единомышленниками-деистами «естественную религию», никогда и нигде не существовавшую. Ничем не лучше и «савойский викарий» Руссо с его культом Верховного Существа (l’Être suprême).
Свобода как проблема и постулат
«Человек рождён свободным, а между тем он повсюду в оковах». Над этими знаменитыми словами из первой главы «Общественного договора» немало размышлял и Герцен, и Бакунин. Руссо полагал, что люди от природы свободны и добры; это цивилизация портит их, превращая в жадных и злых существ, норовящих поработить ближнего. Именно цивилизация разделила людей на классы и развязала «войну всех против всех». В обмен на материальные блага цивилизации человеку пришлось расстаться со своей свободой.
Для Герцена первая часть сентенции Руссо означает, что «человек родится зверем
– не больше. Возьмите табун диких лошадей, совершенная свобода и равное участие в правах, полнейший коммунизм» [10, с. 80]. С тем же глубокомыслием Руссо мог бы сказать, что рыба рождена летать, а между тем она повсюду в воде. В доказательство воздушной натуры «Рыбства» можно указать на летучих рыб, и разве не из рыб природа создала птиц?
Свобода, как и полёт, никому не даются даром, от природы, их надо в себе выработать . Руссо превращает проблему свободы в постулат, тем самым скрывая корень этой проблемы и мешая решать её на практике.
Во второй части сентенции – человек повсюду живёт в оковах – Герцен усматривает «насилие истории, презрение фактов». Диалектика истории состоит в том, что первым шагом к подлинно человеческой свободе становятся «цепи» рабства. Поработитель получает возможность свободного развития высших культурных способностей за счёт порабощённого. В этом смысле рабство является прискорбным, но необходимым условием «гражданского развития».
Герцен согласен с Вольтером, что простой народ вовсе не жаждет свободы. «Глухое брожение» и революционные порывы возникают не из тяги к свободе, а от голода и нищеты. «Будь пролетарий побогаче, он и не подумал бы о коммунизме», – замечает Герцен, предвосхищая ещё не начавшуюся трансформацию западного пролетариата в «средний класс», начисто утративший былой революционный дух. Простой народ Герцен называет тем же презрительным словечком «толпа», давая оценку, под которой, вероятно, подписался бы и Вольтер: «Толпа поняла всё непонятное, всё нелепое и мистическое; всё ясное и простое было ей недоступно; толпа приняла всё связующее совесть и ничего освобождаю- щее человека. Так впоследствии она поняла революцию только кровавой расправой, гильотиной, местью» [10, с. 78–79]. Вместе с тем оба, Герцен и Вольтер, горячо сочувствуют этой толпе – «нам больно видеть подавленную массу, нас оскорбляет её рабство, мы за неё страдаем – и хотим снять своё страдание» [10, с. 78–79].
Не менее решительно отвергает тезис Руссо «человек рождён свободным» и Бакунин. «Сородич гориллы», человек начинает свой исторический путь во мраке инстинктов, охваченный животным страхом перед силами природы, которые он обожествляет. О какой свободе в этом первобытном состоянии можно вести речь?
Это бессилие и страх сплачивает людей, поодиночке они попросту не могли бы выжить. «Общественный договор», заключённый некогда дикарями, не более чем романтичная сказка. Если бы такой договор и имел место быть, он мог бы стать основанием государства, но никак не общества. Но тогда его надо назвать договором «государственным», а не «общественным». Как анархист, Бакунин резко поляризует понятия государства и общества. Отождествление общества с государством всегда и всюду влечёт за собой утрату личной свобо- ды, люди превращаются в принадлежность государства, его «граждан».
« Общество – это естественный способ существования человеческого коллектива независимо от всякого договора. Оно управляется традиционными нравами и традиционными обычаями, но не законами. Оно медленно прогрессирует, движимое импульсами индивидуальной инициативы, а не мыслью и волей законодателя» [4, с. 317].
Если двигателем общественного прогресса является индивидуальная инициа- тива, или самодеятельность индивидов, то, следовательно, необходимо всеми силами поощрять в людях развитие свободной индивидуальности. В этом Бакунину видится даже общий закон эволюции. Если природа и не рождает человека свободным, то она толкает его на путь освобождения себя. Человек – одновременно самое социальное и самое индивидуальное существо в природе. Между социальностью и индивидуальностью нет никакого противоречия до тех пор, пока социальность не принимает вид сверхличного института – государства.
Коренную ошибку Руссо Бакунин усматривает в смешении общества с государством. Здесь тональность Бакунина становится беспощадной. Он буквально клеймит Руссо и его последователей. На смену прежним церковникам, отмечает он, пришли «светские священники, короткополые лжецы и софисты, среди которых главная роль выпала на долю двух роковых людей: один был самый лживый ум, другой – самая доктринёрская деспотическая воля прошлого (восемнадцатого) века: Жан-Жак Руссо и Робеспьер» [1, с. 493]. Руссо, продолжает Бакунин, «можно рассматривать как истинного творца современной реакции. На первый взгляд самый демократический писатель восемнадцатого века, он взращивал в себе беспощадный деспотизм государственного человека. Он был пророком доктринёрского Государства, первосвященником которого пытался сделаться его верный ученик Робеспьер» [1, с. 493]. В лице Дантона Робеспьер гильотинировал Республику, расчистив место для имперской диктатуры Бонапарта.
Герцен и на сей раз даёт более взвешенную и объективную оценку вкладу Руссо в дело революции. «Женевский гражданин» первым из просветителей заговорил
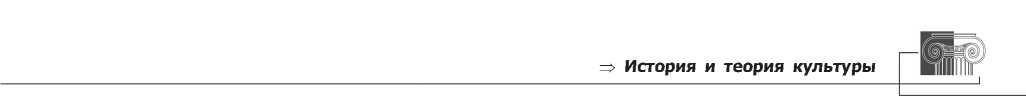
с властью открыто, «гордым языком, лицом к лицу». Проклиная цивилизацию, он не делал исключения и для института государства. Он идеализировал народ, но не государство. «Толпы тогда были изъяты движения, но Руссо дал иное направление развитию» [6, с. 457]. Герцен видит в Руссо голос толпы и относится к нему соответственно, с тем двойственным чувством презрения и сочувствия, которое мы охарактеризовали выше.
Герцен не разделяет мечты Руссо, его взгляд на новый мир, не говоря уже о религии «Верховного существа». Но это не мешает ему признать, что из всех просветителей именно Руссо внёс наибольший вклад в революционное движение. «Руссо мечтал – хотя и превратно – о новом мире, он подкапывал не одни учреждения, а всё здание общественного старого мира; его поняли только в революцию» [6, с. 458].
В конце жизни в адресованных Бакунину письмах «К старому товарищу» Герцен ставит самый больной вопрос: каким должен быть тот «новый мир», к которому стоит стремиться. Одно дело – ломать обветшалое, другое – строить нечто новое, небывалое. Французской революции отлично удавалось ломать, но не удалось на практике осуществить идеалы свободы и братства. Не лучше обстоит дело с позитивной программой революции и сегодня, трезво констатирует Герцен. «Меньшинство, идущее вперёд, не доработалось до ясных истин, до практических путей, до полных формул будущего экономического быта ... Ни одной построяющей, органической мысли мы не находим в их завете, а экономические промахи не косвенно, как политические, а прямо и глубже ведут к разорению, к застою, к голодной смерти» [8, с. 531–532].
Доживи Герцен до Октябрьской революции, он мог бы повторить то же самое, видя разорение и голодную смерть вокруг. Конечно, какие-то смелые планы у Ленина были, он поделился ими в «Государстве и революции», но они, как и все прежние планы, пошли вразрез с жизнью и были поневоле отброшены.
Что стало бы, одержи «Весна народов» победу над силами старого мира? Ведь её предводители, включая Бакунина, в лучшем случае полагались на конструктивную «самодеятельность» народа, а в худшем – сочиняли разные проекты построения всеобщей казармы.
Самокритичные сомнения Герцена иногда толкуются как открытие им, задолго до Тиллиха, неких «демонических сил, играющих историей» [11, с. 220]. У Герцена действительно можно встретить подобные метафоры, но вряд ли стоит принимать их за исторические понятия в собственном смысле слова.
С бóльшим основанием можно утверждать, что на склоне лет Герцен пришёл к пониманию исторической незрелости революционного движения.
Коль скоро ни он сам, ни кто-либо другой не дошёл до «построяющей, органической мысли», то дело тут не в недостатке ума и стремления, а в том, что сама История не готова пока что к рождению нового общества. А если так, то никакие революции «сверху» или же «снизу» не могут увенчаться успехом.
История – объективный процесс, и мысль должна идти за реальностью, а не пытаться создать новый, свободный мир на культурной пустоши, оставленной революцией, как предлагал Бакунин. Здесь – главная точка разрыва Герцена со своим «старым товарищем».
Список литературы Французское просвещение и русская революционная мысль: страницы истории идей
- Бакунин М. А. Бог и государство // Избранные философские сочинения и письма / [вступ. ст. В. Ф. Пустарнакова, с. 3-52]. Москва : Мысль, 1987. С. 445-521.
- Бакунин М. А. Коммунизм // Избранные философские сочинения и письма / [вступ. ст. В. Ф. Пустарнакова, с. 3-52]. Москва : Мысль, 1987. С. 233-241.
- Бакунин М. А. Письмо А. Руге. Май 1843 г. // Избранные философские сочинения и письма / [вступ. ст. В. Ф. Пустарнакова, с. 3-52]. Москва : Мысль, 1987. С. 230-233.
- Бакунин М. А. Федерализм, социализм и антитеологизм // Избранные философские сочинения и письма / [вступ. ст. В. Ф. Пустарнакова, с. 3-52]. Москва : Мысль, 1987. С. 279-331.
- Берлин И. История свободы. Россия. Москва : Новое литературное обозрение, 2001. С. 85-126.
- Герцен А. И. [Из дневника 1842-1845 гг.] // Сочинения : в 2 томах / [сост. и авт. вступ. ст. А. И. Володин ; ред. : А. И. Володин, З. В. Смирнова] ; АН СССР. Институт философии. Москва : Мысль, 1985-1986. Том 1. 1985. С. 435-482.
- Герцен А. И. Былое и думы : в 3 томах. Москва : Художественная литература, 1969.
- Герцен А. И. К старому товарищу // Сочинения : в 2 томах / [сост. и авт. вступ. ст. А. И. Володин ; ред. : А. И. Володин, З. В. Смирнова] ; АН СССР. Институт философии. Москва : Мысль, 19851986. Том 2 / сост. и авт. примеч. З. В. Смирнова. 1986. С. 531-547.
- Герцен А. И. Капризы и раздумье // Сочинения : в 2 томах / [сост. и авт. вступ. ст. А. И. Володин ; ред. : А. И. Володин, З. В. Смирнова] ; АН СССР. Институт философии. Москва : Мысль, 19851986. Том 1. 1985. С. 154-200.
- Герцен А. И. С того берега // Сочинения : в 2 томах. Москва : Мысль, 1985-1986. Том 2 / сост. и авт. примеч. З. В. Смирнова. 1986. С. 3-117.
- Кантор В. К. Изображая, понимать, или Sententia sensa : философия в литературном тексте. Москва ; Санкт-Петербург : ЦГИ Принт, 2017. 832 с.
- Рябов П. В. М. А. Бакунин и А. И. Герцен : друзья, единомышленники, оппоненты // Прямухинские чтения 2006 года. Москва : Инэк, 2007. С. 13-38.