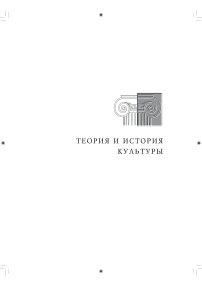Фундаментальная культурология: актуальные направления исследований
Автор: Флиер Андрей Яковлевич
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 3 (53), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются основные направления культурологических исследований в границах профиля фундаментальной культурологии, которые представляются наиболее актуальными в социокультурной ситуации сегодняшнего дня.
Фундаментальная культурология, границы свободы, специализация в деятельности, влияние культуры на социальную активность, средства культурного влияния
Короткий адрес: https://sciup.org/14489514
IDR: 14489514 | УДК: 008:1-027.21
Текст научной статьи Фундаментальная культурология: актуальные направления исследований
Актуальными направлениями исследований в фундаментальной культурологии нужно считать те, которые занимаются анализом наиболее важных тенденций социокультурного развития.
Здесь следует провести четкое размежевание границ между компетенциями прикладной и фундаментальной культурологий, которые еще не вполне демаркированы. Прикладная культурология занимается анализом культурной жизни и наблюдаемых культурных процессов, определяясь в своих интересах реальными практическими возможностями культурной политики или какой-либо иной управленческой практики по регулятивному воздействию на эти культурные объекты. Предмет исследований прикладной культурологии — тот сегмент культуры, динамикой которого можно каким-то образом непосредственно управ- лять. Такие явления культуры обусловлены актуальными социальными причинами и прямыми запросами населения. А фундаментальная культурология изучает тенденции культурной динамики, имеющие стихийный, исторически обусловленный характер. Эти явления не поддаются непосредственному управленческому регулированию, но их необходимо принимать во внимание и пластично адаптироваться к ним в практическом культурном строительстве, в осуществляемой культурной политике.
В числе таких исторических тенденций, изучаемых фундаментальной культурологией и представляющихся весьма значимыми как в общем процессе культурной динамики, так и для актуальной культурной политики, можно назвать:
-
1. Наблюдаемое в ходе истории и все более нарастающее в течение последних двух-
46 1997–0803 ВЕСТНИК МГУКИ 3 (53) май–июнь 2013 46–51
-
2. Наблюдаемое в ходе истории нарастание дифференциации и специализации направлений человеческой деятельности.
-
3. Наблюдавшееся на протяжении всего ХХ века и еще более активизировавшееся ныне усиление роли культурных оснований и стимулов социальной активности людей.
-
4. Последовательная перемена в ходе истории основных средств, с помощью которых осуществляется культурное влияние на человека и общество.
трех веков расширение границ социальной и культурной свободы человека.
Несмотря на свой стихийный и исторический характер, эти тенденции оказывают определенное воздействие и на параметры актуальной культурной политики, которая должна учитывать их в своих стратегических планах, проектах и прогнозах.
Рассмотрим поподробнее, как сами эти тенденции, так и то, какую практическую значимость имеет их изучение.
* * *
Тенденция неуклонного расширения границ социальной и культурной свободы человека в ходе исторического развития сообществ наблюдается на протяжении всей истории человечества.
В аграрную эпоху (в Европе это Античность и Средневековье, в Азии такого выраженного разделения на культурные этапы не было) индивид, даже будучи рабом или крепостным, был много более свободен в своих личностных проявлениях, нежели первобытный человек. Тем более был культурно и отчасти социально автономен аристократ или свободный горожанин. Основными ограничивающими челове- ка рамками были общие нормы «правильного» религиозного и верноподданнического политического поведения, нарушение которых жестко преследовалось.
Переход к индустриальной стадии развития (капитализм и социализм) сопровождался существенным освобождением человека от зависимости от жестких установок религии и подданнического служения. Индивид стал гражданином, обладающим законодательно установленными гражданскими правами и свободами (даже при всех издержках тоталитарных режимов). В индустриальную эпоху появились такие понятия, как «права человека», «социальная справедливость», «свобода мнений», ставшие неотъемлемыми компонентами сознания гражданина. Культурная свобода человека регулировалась интегративными принципами национальной культуры и его лояльностью абстрактным законам.
Сейчас наиболее развитые индустриальные страны вступают (или уже вступили) в стадию перехода к постиндустриальной/ин-формационной эпохе, что также совпало с новым этапом социального и культурного освобождения человека. Это выражается в совершенствовании системы политических свобод, гендерной и сексуальной либерализации, расширении свободы культурных са-мопроявлений индивида (художественный авангардизм, контркультуры, мультикультурализм и пр.). Такие культурные изменения в отдельных проявлениях начались еще с конца XIX века. Сейчас тенденция расширения социальных культурных свобод человека продолжает активно развиваться.
Таким образом, есть все основания полагать, что в ходе исторического развития общества ослабевает социальный контроль над личностью, расширяются границы ее социальной и культурной свободы. Индивид из члена общины, носителя ее общего коллективного лица превращается сначала в поданного какого-то государства, в статусе которого обязанности доминируют над правами, а затем в гражданина (автономную общественную единицу), который обладает неу-
*
коснительными правами и которому общество доверяет, а контролирует его лишь в самых необходимых вопросах.
На первый взгляд кажется, что эта тенденция, имеющая глубокие исторические корни, представляет лишь академический интерес для науки и знание о ней не может быть эффективно использовано в актуальном культурном строительстве. Но это не так. Постепенное расширение границ социальной и культурной свободы, происходящее с течением времени, имеет самое непосредственное отношение к сегодняшней культурной политике и влияет на ее общую направленность.
В частности, оно свидетельствует о том, что наблюдаемые время от времени подъемы влияния традиционалистских культурных интенций (например, рост востребованности православия в России в наши дни) имеют кратковременный и ситуативный характер. Возрастание влияния религии и связанных с ней неизбежных ограничений социальной самодостаточности человека спровоцировано резким усилением социальной дифференциации населения России (экономическим неравенством), по сравнению с советским периодом, и поиском психологической компенсации теми людьми, кто оказался за порогом устойчивой социальной конкурентоспособности. Но это, в принципе, не может продолжаться бесконечно долго. Выстраивать стратегию национальной культурной политики, которая будет ориентироваться на устойчивость процессов клерикализации культурного поля России в обозримом будущем, по меньшей мере, недальновидно.
Помимо того, тенденция расширения границ социокультурной свободы человека свидетельствует о том, что в обозримом будущем будет наблюдаться нарастающее дробление и умножение номенклатуры культурных запросов и потребностей населения. Основными потребителями культурного продукта во все большей мере будут становиться малые социальные группы любителей и поклонников (культурные кластеры) со своей локальной культурной ориентацией, число которых и число объектов культурного внимания которых будет множиться. В соответствии с этим перспективная культурная политика должна содержать в себе большой потенциал диверсификации, ризом-ности, носить сетевой, а не иерархический характер.
Это только некоторые примеры того, как понимание тенденции расширения масштабов социокультурной свободы человека воздействует на осмысленный выбор параметров перспективной культурной политики. Основные системные исследования в этой области еще впереди.
* * *
Тенденция нарастающей дифференциации и специализации в направлениях человеческой деятельности проявляет себя в следующем.
В первобытную эпоху какая-либо дифференциация в деятельности людей имела место только по половозрастному признаку. В неолите с началом производящего хозяйства наметилась дифференциация людей на охотников, земледельцев и животноводов. Но такая дифференциация носила лишь относительный характер. В целом, каждый первобытный человек был способен осуществлять любую деятельность, потребную в рамках господствующего тогда образа жизни.
В аграрную эпоху сформировалась основная номенклатура направлений деятельности, которая имеет место и сейчас (за исключением тех направлений, которые были вызваны к жизни научно-техническим прогрессом последних веков). Но эта дифференциация была ограничена только основными специальностями, без какой-либо дробной специализации. Последняя имела место только ситуативно: воин по ситуации становился то пехотинцем, то кавалеристом, крестьянин — то земледельцем, то животноводом, лекарь — то терапевтом, то хирургом, чиновник — то администратором, то военачальником и т.п.
В индустриальную эпоху произошел некоторый рост числа основных специальностей, но основные базовые направления дея- тельности раздробились на множество более узких специализаций. Только научных профилей по медицине, согласно Номенклатуре специальностей научных работников ВАК, насчитывается 51, по сельскохозяйственным наукам — 21, по строительству и архитектуре — 14 и т.д. А ведь это только научные направления; практико-технических специализаций на практике гораздо больше.
Пока трудно сказать уверенно, какой характер примет дальнейшая дифференциация основных сфер деятельности на постиндустриальной/ информационной стадии технологического развития. При безусловном дальнейшем возрастании общего числа специальностей и специализаций, по всей видимости, качественные изменения можно ожидать в более дробной дифференциации квалификаций работников, уровней их подготовки и профессиональных возможностей, которая в большей мере будет учитывать врожденные способности каждого человека, а также специфику его образовательной подготовки.
Все это имеет самое прямое отношение к перспективным разработкам культурной политики. Номенклатура специальностей и специализаций в отрасли культуры и искусства будет расширяться, развитие пойдет и по линии большей дифференциации квалификаций работников. К связанному с этим усложнению кадровой работы в органах управления культурой нужно загодя готовиться. Но этот процесс будет тесно связан и с расширением сферы социальных запросов на виды и типы культурного обеспечения интересов населения, и с созданием специализированных площадок для новых типов культурных мероприятий.
* * *
Тенденция усиливающегося влияния культуры на социальную активность людей активно обсуждается в научной литературе. По мнению современных ученых-обществоведов, в течение ХХ века наблюдались последовательное возрастание влияния культуры на социальную жизнь общества, усиление роли культуры как стимула соци- альной деятельности человека, опора людей на культуру как на основание и причину социальной активности. Речь идет как о той культуре, которая заполняет свободное время человека, так и об общей социальной культуре общества.
Нужно сказать, что социальная востребованность культурного заполнения свободного времени (досуга) в течение минувшего века выросла необычайно. Наблюдаемая исключительная популярность спорта, кино и поп-музыки говорит сама за себя. По существу, такое явление, как массовая культура, в наиболее существенной своей части является культурой заполнения досуга, что исполняется ею достаточно эффективно. Но одновременно речь идет и обо всей социальной культуре общества, регулирующей формы социальной активности людей, о той области культурного самосознания населения, которая определяет идентичность людей, гуманитарную ориентированность их мировоззрения и адекватность их социального поведения и взаимодействия.
Эта тенденция в последние полвека заметно усилилась. В отличие от «социоцентриче-ского» индустриального мира, чья динамика была связана, в основном, с социальными взаимодействиями и противоречиями, ныне, на переходе к постиндустриальному этапу развития, мы все больше начинаем жить в «культуроцентрическом» мире. В таком мире именно культурные взаимодействия и противоречия начинают определять актуальные модели социальной справедливости, социальную активность людей, становятся основанием для их социальных объединений и пр. В этих новых условиях все больше возрастает роль специалистов по культурным проблемам, процессам и причинноследственным взаимосвязям, особую значимость приобретают социокультурная экспертиза разрабатываемых социальных программ и принимаемых управленческих решений, научные разработки по проблемам культурных идентичностей, межкультурных коммуникаций и т.п.
Рассматриваемая тенденция возрастания
*
роли культурных оснований и целей социальной активности населения в наибольшей мере связана с радикальным повышением значимости досуга в структуре социальной жизни населения развитых стран. Сегодня досуговое времяпрепровождение и его культурное обеспечение играют не меньшую роль в жизни человека (особенно, молодого человека), чем его профильная работа. За последние сто лет изменилось и само заполнение досуга. На смену активному досугу — дружеской коммуникации, художественной самодеятельности, застольным играм, занятиям спортом и чтению книг, что было наиболее характерно для первой половины ХХ века, ныне пришел досуг в формах пассивного потребления культурных продуктов: преимущественно в виде просмотра телевизионных программ и кинофильмов, слушания популярной музыки, спортивного «боления», интернет-игр, механических игровых автоматов, общения в интернет-блогосфере, но также и в виде разных соматических практик (спортивных, танцевальных, аэробика и др.). Современный досуг имеет в меньшей мере физически развивающий, но больше эмоционально и психологически релаксирующий характер. Досуговое времяпрепровождение заполняет сегодня очень существенный сегмент социального бытия человека и стимулирует его социальную активность. Многотысячные объединения спортивных болельщиков, поклонников определенных артистов и звезд шоу-бизнеса, участников молодежных субкультурных группировок и пр. представляют собой серьезные социальные объединения людей, основанные именно на их культурных интересах и играющие заметную роль в публичной социальной жизни общества. Сегодня проектировать и проводить социальную политику без учета интересов этих объединений людей по культурным интересам фактически невозможно.
Другой аспект социально стимулирующей роли культурных интересов связан с миграцией значительных масс населения Азии, Африки, Латинской Америки и Восточной Европы в Западную Европу, США, Канаду и
Австралию, меньше в Россию. Первое (а порой и второе) поколение мигрантов, еще чувствующих себя чужаками в принимающей стране, стремится самоутвердиться, в том числе и в манифестации своей иной культурной принадлежности, заявить о себе как о «культурных Других». Господствующая в западноевропейских и североамериканских странах стратегия мультикультурализма в большой мере способствует подобному культурному самоутверждению приезжих. Такие культурные манифестации становятся существенной составляющей жизни приезжих в Европе и Америке. И социальная политика стан, принимающих мигрантов, не может не учитывать важность, высокую активность, а порой и агрессивность этих манифестаций.
Эта тенденция возрастания роли культурных оснований и целей социальной активности населения самым существенным образом должна учитываться общей социальной политикой современного государства.
* * *
Тенденция последовательной перемены основных средств культурного влияния на общественное сознание осуществляет себя следующим образом.
В первобытную эпоху сознанием родовых и племенных сообществ управляли обычаи, определявшие весь процесс жизни людей, начиная с детства и первичной инициации, затем через жизнеобеспечивающую и репродуктивную деятельность на протяжении всей жизни, и так до смерти и посмертного обращения с телом. Все акции жизни и смерти человека жестко регулировались установленными нормативными формами обычая и сопровождались соответствующими обрядами. Никакая жизнедеятельность вне обычая и обряда была практически не возможна.
В аграрную эпоху функцию основных культурных регуляторов жизни и деятельности человека исполняли религия и политическое служение. В Европе в античную эпоху доминантным было политическое служение человека своему государству (государю), а в Средневековье возобладало религиозное культурное (а с ним и социальное) ре- гулирование социальной жизни. На Востоке не наблюдалось такого поэтапного деления: и религия, и политическое служение регулировали социальное поведение человека параллельно. Но представить себе феномен атеиста или «гражданина мира» в эту эпоху практически невозможно. Это было культурно немыслимо для человека того времени.
На индустриальной стадии технологического развития (начавшейся с Ренессанса, а далее Реформация, Просвещение, капитализм и социализм) в странах Европы и Америки, в основном, и в некоторых других странах частично наблюдалось преобладающее культурное регулирование жизни населения с помощью образования, художественной литературы и искусства. Разумеется, религия и политическое служение отступали в своем культурном влиянии постепенно, но уже в XIX веке абсолютный приоритет образования, литературы и разных видов искусства в культурном влиянии на человека (по мере урбанизации и возрастания грамотности основной массы населения) стали очевидными.
В начинающуюся постиндустриальную/ин-формационную стадию развития наблюдается постепенный переход основных рычагов культурного влияния на население и регулирования его социального поведения в руки средств массовой информации. Конечно, в своих отдельных проявлениях этот процесс начался раньше: со второй половины XIX века начали серьезно влиять на социокультурное сознание населения газеты и журналы, в первой половине ХХ века — радио, со второй полвины ХХ века — телевидение, а в начале XXI века начинается эра преобладания Интернета. Можно сказать, что с переходом на постиндустриальные технологии развития с конца ХХ века значимость СМИ как источника социокультурного влияния на общество уже превысила значимость образования, литературы и искусства.
Нельзя сказать, что эта новая ситуация вообще не учитывается нашей культурной политикой, но, вместе с тем, никакого системно- го внимания к этой особенности культурного влияния на жизнь общества не видно. Усилия культурной политики направлены в первую очередь на развитие культуры как отрасли и менее всего на экспансию культуры в качестве социально-регулятивной силы. Вопросы о социальной эффективности осуществляемой культурной политики и о степени ее влияния на динамику общественного сознания в России сейчас вообще не стоят. Отсюда и отсутствие внимания к основным средствам такого влияния.
Следует отметить, что определенную долю ответственности за такое положение дел несет и фундаментальная культурологическая наука, которая ограничивает свои функции только наращиванием академического знания о культуре и содержательным обеспечением культурологического образования и не пытается влиять на актуальную культурную политику. Разумеется, влияние фундаментальной культурологии на культурную политику должно иметь специфический характер, не затрагивая вопросы ситуативного управления текущими культурными процессами, а касаясь лишь вопросов стратегии социокультурного развития в целом. Но в разработке подобной стратегии, ее серьезном научном обосновании и экспертном обеспечении фундаментальная культурология может и должна принимать участие.
Другое дело, что органы управления культурой не проявляют интереса к сотрудничеству с наукой, ограничивая свои функции только ситуативным управлением отраслью, что, естественно, в фундаментальном научном обеспечении не нуждается. Задача основательной и системной научной разработки основных направлений культурной политики вполне решаема, однако на такое обеспечение нет заказа от органов управления культурой.
Остается только надеяться, что когда-нибудь к руководству отраслью культуры в России придут люди, достаточно компетентные для понимания всего этого.