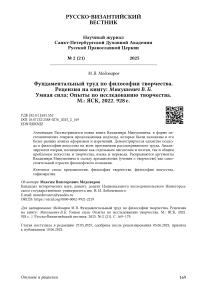Фундаментальный труд по философии творчества. Рецензия на книгу: Микушевич В. Б. Умная сила: Опыты по исследованию творчества. М.: ЯСК, 2022. 928 с.
Автор: Медоваров М.В.
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: Отзывы и рецензии
Статья в выпуске: 2 (21), 2025 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается новая книга Владимира Микушевича, в форме систематических очерков продолжающая подходы, которые были заложены в его более ранних книгах афоризмов и изречений. Демонстрируется единство подхода к философии искусства на всем протяжении рассматриваемого труда. Анализируются очерки, посвященные как отдельным писателям и поэтам, так и общим проблемам искусства и творчества, языка и перевода. Раскрываются аргументы Владимира Микушевича в пользу креациологии (учения о творчестве) как самостоятельной отрасли философского познания.
Креациология, философия творчества, философия искусства, софиократия
Короткий адрес: https://sciup.org/140310269
IDR: 140310269 | УДК: [82.0:1]:655.552 | DOI: 10.47132/2588-0276_2025_2_169
Текст научной статьи Фундаментальный труд по философии творчества. Рецензия на книгу: Микушевич В. Б. Умная сила: Опыты по исследованию творчества. М.: ЯСК, 2022. 928 с.
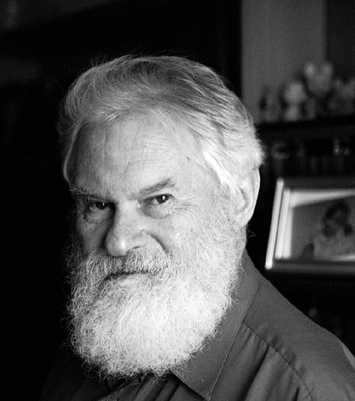
Владимир Борисович Микушевич (1936–2024)
Владимир Борисович Микушевич (05.07.1936–23.10.2024) — выдающий русский поэт, писатель, переводчик и философ — выпустил своеобразное собрание сочинений, включив в свою новую книгу «Умная сила» под одной обложкой как готовые литературно-критические очерки разных лет и материалы цикла передач «Магистр игры», так и недавние теоретические работы по философии творчества в целом1.
Статьи и очерки разных лет (различие в их датировке ощущается крайне слабо), вошедшие в «Умную силу», посвящены широкому спектру поэтов, писателей и философов: около 150 страниц — литературе средневековья и XVI–XVIII вв., столько же — общим теоретическим статьям, остальные 600 страниц уделены авторам XIX–XX вв., причем многие очерки сами «тянут» на полноценную книгу (например, работа о Мандельштаме на 110 страниц). В рамках рецензии невозможно и не нужно пересказывать содержание каждого из нескольких десятков очерков «Умной силы», тем более что все они затрагивают несколько важных литературоведческих и философских проблем. «Silentium» Тютчева как парадоксальное опровержение культуры «молчания»; мировоззренческая противоположность немецких и французских рыцарских романов; сонеты Шекспира как антипод сонетов Петрарки (которые, в свою очередь, опрокидываются его собственными «Триумфами»); подлинный смысл судьбы гётевского Фауста; жизнь Гёте и Новалиса как проявление величия даже вне их письменного творчества — вот лишь немногие из неочевидных проблем, в которые предстоит погрузиться читателям в начальных главах книги Микушевича. Автор предлагает смелые решения относительно таких вопросов, как противопоставление смеха и улыбки у Данте (тесно связанное с другим, теоретическим очерком о смехе), загадка адресатов шекспировских сонетов, тайны интимной жизни Новалиса, многочисленные (бессознательные?) аллюзии у А. С. Пушкина на «Ночные бдения» (роман, автором которого теперь считается Э. Клингеман) и, наоборот, аллюзии в «Ночных бдениях» на множество моментов из прошлой и будущей (!) литературы. Особое внимание следует обратить на анализ употребления в «Божественной комедии» неологизмов типа «втебяивать», «вменяивать», «враивать» — здесь В. Б. Микушевич максимально близко подходит к апофеозу книги Гвидо де Джорджио о Данте2.
По мере приближения к центральной части «Умной силы» растет понимание, что даже в очерках, заглавие которых посвящено только одному поэту или мыслителю, речь идет об отсылках и к остальным, что превосходно обосновывается учением Рильке о всех стихотворениях всех поэтов как написанных, в сущности, одним архетипическим Орфеем, а по существу — «Великим магистром отсутствий»3. Из очерка в очерк красной линией проходят шекспировские, гётевские, новалисовские, пушкинские мотивы, равно как и такие сквозные темы, как самопародийность, неожиданно встречаемая у многих авторов. Темы конкретных сюжетов статей о литературе XIX и начала XX в. при этом свежи и смелы: Мёрике и Рильке как духовные наследники Гёльдерлина и Новалиса; пушкинский «Пророк» и «Поэт» как практически небиблейские и «шаманские» образы (при всем различии их интерпретации у Достоевского и Шаляпина); Татьяна Ларина как невеста Христова и заведомая невозможность ни для нее, ни для Онегина ответить взаимностью, что сразу бы убило не только их интерес друг к другу, но и ценность их образов для нас; лукавый и сатанинский характер «продленного» «чудного мгновенья» у Гёте и Пушкина; дословное повторение некоторых мотивов Гёльдерлина и Новалиса у Державина, Эдгара По, Артюра Рембо и Мандельштама; Виктор Гюго как универсальная фигура французской литературы, «их всё» и «зеркало французских революций». Всё это — лишь некоторые из тем очерков «Умной силы», посвященных литературе первой половины XIX в.
Своеобразны очерки о жанровой принадлежности известных произведений: «Евгений Онегин» интерпретируется как рыцарский роман, а «Повесть о Светомире-царевиче» — как Bildungsroman о воспитании православного кесаря. Роман Вячеслава Иванова понимается Микушевичем как базовый вневременной миф о православном translation imperii и о Святой Руси, как произведение, в котором заложены универсальные коды русскости, ключевой из которых — тайная софиократия, власть Софии Премудрости Божией, стоящей за явной властью серафического Белого царя4. Показательна формулировка ивановского идеала: «Подспудный бунт против культуры как системы принуждений всегда таился в творчества Вячеслава Иванова при всей его традиционности. Этот бунт принимает форму мистического анархизма, странно сочетающегося с мистическим же монархизмом, что позволяет говорить об анархомонархизме Вячеслава Иванова или о софиократии»5.
Между прочим, само понятие «умной силы», давшее заглавие всей книге и одной из ее глав, взято из наследия Вячеслава Иванова. Данный термин подчеркивает связь философии В. Б. Микушевича с православным исихазмом, с учением об энергиях; «умную силу» в ивановском смысле он уподобляет умной молитве6. По мысли Ми-кушевича, уже созданное произведение до определенной поры продолжает излучать энергии, влияющие на людей, на читателей и зрителей шедевров. Для обозначения данного феномена философ вводит понятие логоэнергетики и последовательно проводит его через разные очерки рассматриваемой книги: «Творчество есть произведение бытия не потому, что бытие произведено творчеством, а потому что бытие непрерывно творчеством производится. Производя творчество в свою очередь, будучи творчеством в своей основе. Творчество непрерывно и продолжается в творении, как и в произведении, даже тогда, когда творение или произведение завершено. Продолжение творчества в завершенном творении (произведении) проявляется в его воздействии, называемом в креациологии логоэнергетикой»7.
Помимо «Повести о Светомире-царевиче», другим таким же произведением, где в свернутом виде в судьбах героев представлена вся палитра вечных архетипов русской жизни, является «Хованщина» М. П. Мусоргского8. Осмелимся сказать, что в этот ряд можно смело поставить главный роман самого В. Б. Микушевича — «Новый Платон, или Воскресение в Третьем Риме», о характере которого сам автор упоминает в своем очерке «Смех против осмеяния»9.
Русские поэты первой половины XX в. представлены в книге наиболее развернутыми и в точном смысле слова монографическими очерками. Таковы главы о поэзии Бунина, Блока, Мандельштама, Цветаевой, Заболоцкого, каждый из которых тонко и внимательно вписан в контекст русской и мировой словесности. Из них особенно выделяется очерк о поэзии А. А. Блока и православии, стоящий по значимости в одном ряду с главами о Вяч. Иванове. В центре внимания здесь — столкновение двух разных софиологий: почитания Премудрости Божией, которая не может пасть, и подпольных гностических учений о «падшей Софии», которая у Блока отождествляется с Прекрасной Дамой и которая, что страшнее всего, «мчится по ржи» (об этой проблеме «дубля Софии» у Блока недавно развернуто высказался А. Г. Дугин10). При этом все мысли Блока на протяжении жизни, как убедительно показывает В. Б. Микушевич по данным его писем, стихов и воспоминаний, неизменно вращались вокруг Христа, хотя подчас эти мысли были крайне неортодоксальными, едва ли не на грани хлыстовства11. Охватить всю эту огромную тему, вписать поэзию Блока всех его периодов в контекст русской православной культуры — данную задачу успешно решает «Умная сила», наряду со скрупулезным анализом других поэтов. М. И. Цветаева, к примеру, рассматривается как поэтесса уникальная, но в чем-то тайном параллельная Блоку и близкая логике его поэтического развития. В свете новой концепции ноомахии у А. Г. Дугина, посвятившего особый том проявлениям «логосов Аполлона, Диониса и Кибелы» в русской культуре (где поэзия Цветаевой интерпретируется как гностическая и софиологическая12), по-новому и свежо звучит тезис В. Б. Микушевича о переходе М. И. Цветаевой от равновесия аполлонизма и дионисийства в ранней поэзии к подавляющему ди-онисийству на позднем этапе13. Примером последовательного аполлонизма, причем достаточно воплощенного, вещественного, и в то же время в своей глубине религиозного, в «Умной силе» предстает творчество О. Э. Мандельштама14, которому посвящены две крупные главы, детально рассматривающие его поэтику, мировоззрение и связи с русским и зарубежным искусством разных эпох15. Антиподу Мандельштама по мировоззрению — Б. Л. Пастернаку, а точнее, одному-единственному его стихотворению («…и дышат почва и судьба») — посвящен следующий очерк16. Характерно, что всякий раз в одном ряду с Буниным, Блоком, Цветаевой, Мандельштамом и Пастернаком оказывается Рильке, неизменно сопоставляемый с ними в очерках как в некотором смысле русский поэт.
Из зарубежных творцов XX в. лишь пятеро удостоились очерков в «Умной силе», включая даже одного художника — Сальвадора Дали. Однако в центре внимания В. Б. Микушевича неспроста стоят два немецких автора, переводами которых он особенно известен: Готфрид Бенн и Эрнст Юнгер17. В некотором приближении можно сказать, что первый из них был последним великим немецким поэтом (Микуше-вич цитирует по этому поводу Ю. Иваска), второй — последним великим немецким прозаиком. По существу, этими двумя именами завершается история подлинной немецкой литературы (прибавленная к ним глава о Нелли Закс все-таки концентрируется на специфической теме еврейско-немецкой культуры в период Холокоста), и неслучайно посвященные им главы вращаются вокруг проблемы западного нигилизма и исторического конца судьбы Запада, его Рагнарёка, его «сумерек богов». Собственно, поэзия Бенна и рассматривается Микушевичем в параллелях со «Старшей Эддой», с теорией Шпенглера и с русским «поэтом распада» Георгием Ивановым. Иначе и быть не могло. В случае же с Юнгером внимание Микушевича сосредоточено на его ранней «приключенческой» и военной прозе, особенно на романе «Лейтенант Штурм» — квинтэссенции философии войны и антропологии солдата. Сделанные здесь выводы о мотивах поведения людей в окопах, о выборе судьбы в бою, противостоят всякому сентиментальному гуманизму и пацифизму, равно как и политическому тоталитаризму, и звучат в наше время не менее насущно и актуально, чем столетие назад, когда Юнгер и написал данные произведения. Тем более поражает непреднамеренное созвучие интерпретаций Бенна и Юнгера в «Германском Логосе» А. Г. Дугина18 оценкам, которые им дает В. Б. Микушевич.
Неслучаен и выбор из русских писателей XX в. для анализа М. А. Булгакова потому, что «Мастер и Маргарита» — роман, насквозь пронизанный реминисценциями из немецкой литературы, особенно из Гёте и Гофмана19. К булгаковскому роману автор «Умной силы» возвращается не раз и в других главах, неизменно подчеркивая противопоставленность Иешуа подлинному Иисусу Христу.
В последней трети «Умной силы» меняется характер очерков. Они становятся все меньше привязанными к конкретным творцам и произведениям искусства и все больше выводят на общие философские вопросы. Часть их мы уже осветили в самом начале рецензии. Эта концентрация философских размышлений В. Б. Микушевича нарастает по мере приближения к концу книги. В очерках о Хармсе, Заболоцком, Данииле Андрееве, Поле Верлене («всё остальное — литература») автор постоянно цитирует А. Ф. Лосева, поднимая коренные проблемы философии искусства и смысла поэзии с ее божественным звуком в ее противопоставлении «литературе» как мертвому фиксированному слову, как риторике с «красивостями». В. Б. Микушевич говорит о завершении в ХХ в. длительной истории западной (в какой-то мере и восточной) литературы («от Улисса до Улисса», т. е. от Гомера до Джойса), о разложении понятия «литературного процесса»20. Нельзя не отметить, что данная философия искусства крайне близка к тому, что излагал А. К. Кумарасвами в очерках «Философия средневекового и восточного искусства» и «Первобытное мышление» как общее мнение всей мировой традиции (причем, прежде всего, с опорой на Отцов Церкви и ведущих средневековых богословов)21.
В последующих очерках В. Б. Микушевич переходит к изложению собственной философской позиции по ряду вечных и в то же время злободневных вопросов. Такова глава о смехе и осмеянии, по смыслу тесно связанная с очерком «Смех Беатриче» и, через рассматриваемую в ней тему русских юродивых, с «Проблесками» и «Па-зорями» автора (оттуда же и вывод: «Смех без причины — признак блаженного»)22. Дерзновенным по форме и глубоким по смыслу является очерк «Игра в человека», посвященный философии пола, антропологии ребенка, вопросу о земном рае, социальной проблеме педофилии и насилия в школе как оборотной стороне запрета современной «культуры» на ласку23. Болезненные для русского самосознания и истории России вопросы затронуты в главе «Земля-именинница»24. От представленной в ней философии почвы происходит закономерный переход к философии крови, точнее, к мистике и мифу крови, постоянно проливаемой на протяжении всей истории человечества (тематика, излюбленная многими авторами от Ж. де Местра, В. В. Розанова и П. А. Флоренского до А. де Дананна и В. И. Карпца)25. «Кровь течет не только в жилах человека, это универсальная стихия всего живого, соприкасающаяся со стихиями космоса», — подчеркивает В. Б. Микушевич и заключает: «Кровь говорит, у нее есть голос, вернее голоса, но голоса ее таинственны, и говорят они исключительно в поэзии»26. Следующая глава посвящена похвале (а в чем-то и осуждению) глупости как универсального качества, пронизывающего гениев и дураков, богатых и великих; здесь на новом уровне рассматривается феномен русских юродивых и сказочных дураков, а заодно поднимается такая острая социальная проблема, как борьба детородности (апофеоза «глупости») с головным, рационалистическим движением «чайлдфри»27. Весьма нюансированным получился богословский очерк о понятии истинных и ложных чудес и знамений в христианстве28.
Фундаментальное значение имеет глава о философии времени и вечности, жизни и смерти человека. Она называется «Освобождение от времени. Человек в поисках вечности» и посвящена рассмотрению категорий прошлого, настоящего и будущего и места смертного человека на их пересечении. Обозревая разные интерпретации времени от Древнего Египта и блаженного Августина до советского большевизма и Георга Гадамера, В. Б. Микушевич делает заключение о центральном месте жертвы Христовой и Конца света (апокалиптики), превращающих прошлое и будущее из неразличимых фикций в подлинно исторические, реальные феномены. Отрицание вечности как антиутопии новоевропейским сознанием влечет за собой культ длящегося настоящего и культ прогресса, жертвами которого по-разному падают и гётевский Фауст, и обыкновенные наркоманы, и такие зачинщики «бунта против истории», как Деррида с Фукуямой, желавшие стереть историческое время, хотя конец времени неизбежно наступает и для них29.
Несмотря на различие жанров, излагаемые в «Умной силе» мысли являются прямым продолжением глубоких изречений из книг афоризмов «Проблески» и «Па-зори»30. Эта преемственность задается автором сразу же, на первой странице книги
(не считая предисловия), представляющей собою кратчайшие «Тезисы по креациоло-гии»31. Почти все высказанное здесь уже так или иначе звучало в практически недоступных в России, отсутствующих в библиотеках «Проблесках» и «Пазорях», но впервые было изложено в виде систематической нити рассуждений только в «Умной силе». Данные тезисы задают рамку того, чем является креациология — философия художественного творчества — в понимании автора: «постижением творчества в творчестве». Завершается 928-страничный том (не считая библиографии и приложений) другой короткой заметкой по креациоло-гии, подводящей теоретический итог всем конкретным исследованиям автора об отдельных писателях и поэтах32. В «Тезисах» удачно связаны воедино издавна характерные для В. Б. Микушевича основные категории его миропонимания: бытие и Слово (противопоставленное как «словам», так и Несказанному), тайное и явное, культура
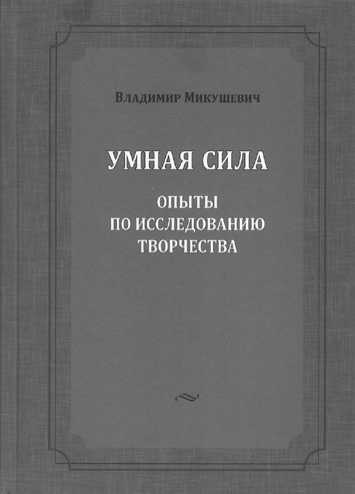
и творчество. Бытие проявляет себя в Слове, энергии Слова — в Несказанном, Несказанное — во времени, где развертывается творчество; культура есть остановленное, окостеневшее творчество.
Отсюда проистекает еще одна дихотомия, известная уже в «Пазорях»: мировые культуры В. Б. Микушевич делит на культуры Несказанного (например, египетская, индийская, древнегреческая, суфийская исламская, символизм ХХ в.) и культуры Откровенного Слова (христианские: византийская, армянская, русская, средневековая европейская). В первых культурах акцент сделан на тайное («нет ничего явного, что не осталось бы тайным»), во вторых — на явное («нет ничего тайного, что не сделалось бы явным»), хотя на путях конкретного литературного творчества они могут пересекаться. Именно с этим разделением мыслитель связывает специфику русской православной культуры, основанной на откровении Слова в иконе, на триаде «благодать — целомудрие — преображение», тем самым отвергая клеветническое обвинение Г. П. Федотовым русской культуры в «немоте»33. Принципиальными культурами молчания, скрывающими тайное откровение, являются древние языческие культуры или, например, исламская (суфизм); русская же православная культура не скрывает и молчит, но безмолвно показывает, являет, открывает тайну Троицы и Слова. В этой связи В. Б. Микушевич, кстати, противопоставляет смыслы русского «Слова» чрезмерно рационалистическим смыслам греческого «Логоса», в чем невольно перекликается со стихотворной строкой В. И. Карпца: «Староверский толк правил тайно Логос на Слово».
Развивает эту тему очерк об одном философском изречении Д. Хармса про возможность для мира существовать как целое только при различении в нем частей. Такая постановка вопроса, по Микушевичу, противопоставляет искусство и язык, основанные на различении элементов, слов, личностей, многовековой тенденции западной философии (от Анаксимандра до Ницше) к слиянию всего в безразличное, неопределенное единое. В этом разрезе автор рассматривает специфику русской философии, исходящей из евангельского понимания Слова и умозрения конкретных живых образов, по контрасту с западной и восточной философией (при всей близости, например, М. Хайдеггера к русскому пониманию в данном случае)34. В «Философии имени» А. Ф. Лосева Микушевич выделяет тезис о диалектике и об «абсолютном эмпиризме» как непосредственном знании, напрямую данном нам в откровении. Имяславие Лосева для Микушевича — свидетельство о том, что все в мире (люди, животные, вещи, вся Вселенная) суть слова, исполненные смыслов, и Слово есть Бог, хотя Бог не есть только слово35. В поисках истоков противостояния двух философских миропониманий Микушевич вслед за Лосевым закономерно обращается к античности, ставя вопрос о связи афинской демократии с элевсинским культом мертвых и дионисийской трагедией и о сократо-платоновском подрыве данного феномена36.
Два заключительных очерка «Умной силы», вынесенных в «Приложение», представляют собой наиболее нюансированные философские исследования автора37. Начиная с требований к художественному переводу, не имеющим ничего общего с «перекодированием» в коммуникативных переводах, Микушевич затрагивает важнейшие вопросы метафизики языка и слова, неизбежно и всегда многозначного (что напрочь исключает любой логический позитивизм, аналитическую философию и т. д.). Отсюда начинается рассмотрение творчества как специфически человеческой волевой активности, порыва (противоположного инстинкту неразумных животных). Мыслитель решительно отвергает попытки свести художественное произведение к семантике («что автор хотел этим сказать») и демонстрирует, что за вычетом всех влияний эпохи и среды в произведении остается нерушимое личное ядро его автора, который благодаря своему творческому акту из биологического индивида превратился в культурно-историческую личность38. Задача такого творца — выявить в процессе творчества (никогда не сразу) единство материала (Stoff) и языка. Этот тезис верен для всех видов искусства, помещенных между двумя крайними полюсами: живописью (фиксирующей одно мгновение времени в пространственной композиции) и поэзией (фиксирующей одно пространственное качество во временной последовательности): «Если художественно-эстетическая целостность — полноценный эквивалент Вселенной, то все основные характеристики, все аспекты, все атрибуты Вселенной присутствуют в художественно-эстетической целостности. В этом смысле картина, статуя, здание поэтичны, а поэма, драма, роман живописны. Объемность представлена в искусстве архитектурностью; движению, энергии соответствует музыкальность. Живописность, поэтичность, музыкальность, архитектурность наличествуют в каждом произведении искусства как необходимые эстетические категории»39. Этим объясняется и наличие выдающихся творцов, занимавшихся сразу несколькими видами искусства, и прочная органическая связь разных видов искусства одной эпохи. Все данные эстетические категории должны в большей или меньшей степени присутствовать, сосуществовать в создаваемом произведении: «Иначе контекст вырастет хилым, анемичным и долго не проживет. <…> Эстетическая категория получает право на преобладание в художественном воплощении лишь постольку, поскольку она объединяет все другие категории поэтического мотива»40. Более того, автору «хочется верить, что пластичность и музыкальность когда-нибудь снова сольются в высшем художественном синтезе» — в синтезе обязательно словесном, ибо вне слова для человека не существует смысла41.
Мыслитель утверждает, что «художественно-эстетическая целостность — интеллектуальный эквивалент бесконечности и диалектической целостности бытия»42. Иными словами, в произведении искусства в умном, стяженном виде представлена вся Вселенная. Это заставляет автора вновь обратиться к романтической философии искусства и учению Новалиса о «мифическом переводе»43. Но обратиться — не значит разделять ее вполне. Романтический дуализм идеала и приземленной действительности, чреватый будущим нигилизмом, Микушевич корректирует гётевским принципом реализма личности и достижениями реалистической школы художественного перевода. Исходя из этого синтеза, он формулирует собственную концепцию перевода, основанную на сохранении поэтического мотива при передаче его не только на другом языке, но и, к примеру, в другом виде искусства. Данную теорию автор иллюстрирует несколькими показательными примерами образцовых переводов, крайне далеких от буквального («грамматического») следования оригиналу, в конце концов приходя к мысли об эталонности пушкинского подхода, воспринимающего мировую культуру как «живое реальное единство» и возобладавшего в творчестве лучших советских авторов после революции 1917 г.44
Завершает «Умную силу» глава «Произрастание мифа», что не случайно: именно философия мифа лежит в основе всей мысли В. Б. Микушевича. В данном очерке он рассматривает понимание мифа у Якоба Гримма и Новалиса, Гёте и Шеллинга, Вагнера и Ницше, сравнивает его с русскими и зарубежными теориями мифа XIX–XX вв., в центре которых неизбежно оказывается определение А. Ф. Лосевым мифа как развернутого магического имени45. «Сказка летит, сага идет, а миф произрастает», — заключает Микушевич, ставя вслед за Гриммом и Лосевым глубочайший вопрос о соотношении «языческих» мифологий разных народов друг с другом и с христианством. Все мифы, подчеркивает автор, выявляют «многозначность бытия, присущую каждому слову и каждой вещи, а являть многозначность бытия и есть предназначение мифа, без которого реальность перестанет существовать, сходя на нет в мнимой однозначности»46. Конец «Умной силы» сходится с ее началом и с выводами «Проблесков» и «Пазорей» о первичности Слова: «Невозможно определить, миф ли предшествует слову или слово предшествует мифу. Тому и другому предшествует Слово, Которое возвещает первый стих Евангелия от Иоанна. Но движение мифа в произрастании, и произрастает миф не вовне, а внутрь самого себя»47. Таковы слова отнюдь не теоретика, но творца, в поэзии, прозе и в самой жизни которого сформировался особый развернутый миф Мику-шевича (назовем его «мифом Платона Демьяновича Чудотворцева» или «мифом старца Аверьяна»), который сам уже стал фактом русской и мировой культуры. Таково последнее слово креациологии.
В. Б. Микушевич подчеркивает: креациология есть мысль творца о творцах, ею может заниматься только тот, кто сам занимается творчеством, одновременно осмысливая себя и других. Эта дисциплина, по его словам, выходит за рамки эстетики и психологии творчества, и предусматривает осмысление творческих актов теми, кто сам творит. Предметность, выразительность, знаменательность — вот три основные категории креациологии. В. Б. Микушевич подчеркивает: любой творческий акт человека в чем-то подобен божественному акту, а его знаменательность — божественным знамениям, хотя в общем случае они и не тождественны (но могут совпасть в таких явлениях, как православная иконопись). Но все же креациология относится к творчеству не в Едином Боге, а в тварном мире, поэтому любое произведение искусства предусматривает как единство замысла, так и многообразие воплощенных элементов. Отвечая на тезис А. Ф. Лосева («Целое есть диалектический синтез единого и многого»), В. Б. Микушевич провозглашает: «Целое есть иерархическое единство различного»48. Автор не скрывает, что его философия творчества многим обязана рассуждениям А. Ф. Лосева и Вяч. Иванова, хотя в ней присутствует немало новаторских прозрений. Также нельзя не заметить, что философия творчества В. Б. Микушевича крайне близка к учению Дж. Р. Р. Толкина о sub-creation, «малом творении» человека, иерархически подчиненном творению Бога, но укорененном в нем и невозможном без него. «Творческая целостность имеет свойство превышать себя, так что целостность включает в себя „лестницу подобий“, свои собственные образы, непрерывно надстраивающиеся один над другим в чаянье верховного Прообраза», — этот вывод в духе христианского неоплатонизма подчеркивает трансцендентальность и фундаментальность данного тезиса49. В наше время, когда после десятков лет безуспешных попыток создать атеистическую эстетику остро не хватает книг по философии творчества (возможных, разумеется, только в рамках глубоко религиозной мысли), «Умная сила» — сборник, подводящий промежуточный итог речам и статьям В. Б. Микушевича прошлых лет — представляется крайне своевременным и насущно востребованным. Надеемся, что издание избранных статей и выступлений мыслителя будет продолжено.