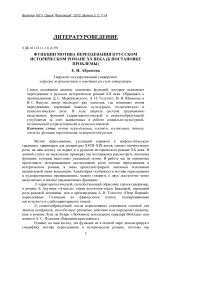Функции мотива переодевания в русском историческом романе ХХ века (к постановке проблемы)
Автор: Абрамова Екатерина Игоревна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу основных функций, которые выполняет переодевание в русском историческом романе ХХ века. Обращаясь к произведениям Д. С. Мережковского, А. Н. Толстого, В. Я. Шишкова и В. С. Пикуля, автор исследует ряд эпизодов, где возникает мотив переодевания, играющий важную культурную, политическую и психологическую роль. В ходе анализа система традиционно выделяемых функций (характерологической и сюжетообразующей) углубляется за счет выявленных в работе социально-культурной, политической (стратегической) и психологической.
Мотив переодевания, костюм, костюмные детали, одежда, функции переодевания, исторический роман
Короткий адрес: https://sciup.org/146121024
IDR: 146121024 | УДК: 821.161.1-311.6:391
Текст научной статьи Функции мотива переодевания в русском историческом романе ХХ века (к постановке проблемы)
Мотив переодевания, уходящий корнями в мифопоэтическую традицию, характерен для литературы XVIII–XIX веков, однако значительную роль, на наш взгляд, он играет и в русском историческом романе ХХ века. В данной статье на нескольких примерах мы постараемся рассмотреть основные функции, которые выполняет указанный мотив. В работе мы не стремимся представить исчерпывающее исследование роли мотива переодевания в историческом романе, а лишь проиллюстрируем основные положения выдвигаемой нами концепции. Анализируя особенности мотива переодевания в художественных произведениях, можно говорить о двух достаточно четко выделяемых и вполне традиционных функциях:
-
1) характерологической, способствующей обрисовке героев (например, в романе Б. Акунина «Азазель» смена костюмов-масок Бежецкой, играющей роль роковой женщины, или в произведении А. Н. Толстого «Петр Первый» переодевание Голицына во французское платье, подчеркивающее мягкотелость и слабохарактерность князя);
-
2) сюжетообразующей, когда переодевание становится основой для завязки конфликта, способствует развитию действия или определяет развязку (как в романе Луве де Кувре «Любовные похождения кавалера Фобласа» или повести А. С. Пушкина «Барышня-крестьянка»).
Однако, на наш взгляд, эти функции не в полной мере демонстрируют специфику мотива переодевания в историческом романе, поэтому мы предлагаем другой принцип классификации, не исключающий традиционный, а скорее дополняющий его.
В зависимости от того, к какому периоду истории обращается писатель, в его произведениях в большей или меньшей степени проявляется мотив переодевания: например, галантный век неразрывно связан не только с маскарадностью как особой культурной категорией, но и с определенным нивелированием различия в гендерном аспекте костюма (например, царевна Софья так оценивает европейское платье Голицына: «Кабы не штаны, так совсем бабье платье…» [3, с. 81]). Осмелимся предположить, что независимо от изображенного периода мотив переодевания, если он возникает в историческом романе, определяет некие культурно-исторические или социально-культурные доминанты. Особенно ярко это проявляется в произведениях о петровской эпохе. Введя иноземное платье как норму одежды, Петр по сути осуществил переодевание не только внешнее, но внутреннее, привнеся с европейским костюмом новые социально-культурные ориентиры.
В романе А. Н. Толстого «Петр Первый» этот аспект переодевания выходит на первый план: автор последовательно показывает, как происходит долгий и трудный процесс облачения старой Руси в костюмы новой России. Противостояние прежних порядков и нововведений царя сохраняется на костюмном уровне достаточно долго, хотя во второй и третьей частях произведения немецкое платье постепенно вытесняет русский костюм: «В прежние года в этот час Роман Борисович уж вдевал бы в рукава кунью шубу, с честью надвигал до бровей бобровую шапку, – шествовал бы с высокой тростью по скрипучим переходам на крыльцо. <…> Князь Роман Борисович угрюмо поглядел на платье, брошенное с вечера на лавку: шерстяные, бабьи, поперек полосатые чулки, короткие штаны жмут спереди и сзади, зеленый, как из жести, кафтан с галуном. На гвозде вороной парик, из него палками пыль-то не выколотишь. <…> Одевшись, Роман Борисович подвигал телом, – жмет, тесно, жестко. <…> Снял с гвоздя парик (неизвестно – какой бабы волосы), с отвращением наложил» [3, с. 374–375]. Этот фрагмент в обобщенной форме демонстрирует то самое переодевание из старорусской одежды в новую, европейскую, которое является одним из символов петровской эпохи. Воспоминание боярина о прежних временах начинается именно с костюма, и сразу даны две знаковые детали – шуба и шапка, эти два атрибута были в недавнем прошлом показателями боярской чести, достоинства, достатка. Новая одежда крайне неудобна: она напоминает орудие пыток. Чувство неприязни иноземной одежды также обусловлено психологическим барьером, не позволяющим боярину воспринимать новый костюм как «свой» хотя бы по «половому» аспекту: чулки – бабьи, парик – бабьи волосы. Таким образом, данный эпизод, формируя символическое переодевание Московской Руси в европеизированную Россию, заостряет и психологические трудности этого процесса.
Подобное неприятие европейского костюма и оттягивание момента вынужденного переодевания мы находим и в романе Д. С. Мережковского «Антихрист. Петр и Алексей»: «А сейчас надо одеваться, напяливать узкий мундирный кафтан, надевать шпагу, тяжелый парик, от которого еще сильнее болит голова…» [1, с. 325]. Платье воспринимается царевичем Алексеем как чужое и мучительно неудобное. На костюмном уровне намечается внутренний конфликт между Петром и Алексеем. Для царевича отцовский мир, неотъемлемым атрибутом которого является и европейский костюм, тягостен. Д. С. Мережковский еще раз показывает эту одежду уже на Алексее, снова подчеркивая неудобство платья.
Мотив переодевания в его социально-культурном аспекте возникает и в романе В. Я. Шишкова «Емельян Пугачев», когда Петр III начинает понимать, что скоро станет императором. В сферу переодевания, сначала реального, а позже маскарадного, читателя вводит фраза Орлова, неодобрительно отзывающегося о нововведениях наследника: «А вместо гвардейской формы нашей, установленной великим Петром, вводятся … прусские разноцветные мундирчики в обтяжку с бранденбургскими петлицами» [5, с. 57]. Граф не принимает нового костюма: уничижительное «разноцветные мундирчики» по сравнению с прежней «гвардейской формой». Важно, что удобное платье (Петровские мундиры относительно просторны) сменяется неудобным («в обтяжку»). Кроме того, прусская форма несет печать позорного мира с Пруссией, заключенного взошедшим на престол Петром III после стольких лет кровопролитной войны. Зеленые мундиры времен Петра Великого – это знак славного прошлого могучей России. Таким образом, новый костюм не только унижает достоинство солдат и офицеров, но и как бы перечеркивает величие державы, ставит ее в жалкое положение побежденной.
В рассмотренных выше случаях отчетливо прослеживается и вторая функция переодевания – психологическая, которая реализуется с точки зрения личностной самоидентификации в системе «свой» – «чужой». Особенно ярко это представлено в романе А. Н. Толстого «Петр Первый». Еще в период правления Софьи, хотя игры с «потешными» не воспринимаются всерьез, намечаются будущие разногласия боярства и Петра, психологически мотивированные оппозицией «свой» – «чужой», которая оказывается тесно связанной с внешним обликом, включающим костюм как ключевой коммуникативный компонент («по одежке встречают»). В одном из эпизодов забав молодого царя Петр представлен глазами бояр: «И вот, – о господи, пресвятые угодники! – не на стульчике где-нибудь золоченом с пригорочка взирает на забаву, нет! – царь, в вязаном колпаке, в одних немецких портках и грязной рубашке, рысью по доскам везет тачку…» [3, с. 104]. Помимо неподобающего для государя поведения выделена и одежда. Петр, переодетый в подчеркнуто непривычный, чужой для русского человека (и тем более государя) костюм, не воспринимается как «свой» царь. Интересно, что и в «потешном» мире сохраняется внутреннее противостояние Петра и боярства, непонимание и неприятие со стороны бояр переодетого, то есть «чужого» царя: «А царь Петр, – тут уже руками только развести, – совсем без чина – в солдатском кафтане» [3, с. 234]. Маскарадностью – важной особенностью набирающего силу мира Петра – наполняется даже привычная для старой Руси парадная царская одежда: «Налево стоял долговязый Петр, – будто на святках одели мужика в царское платье не по росту» [3, с. 155]. Слово «будто» формирует ситуацию ложного переодевания: как такового переодевания нет, но само создаваемое впечатление снова выводит читателя к дихотомии «свой – чужой». Петр, напоминающий переодетого мужика, воспринимается боярами как «шутейный», ненастоящий царь.
Эта же психологическая функция проявляется в напряженные моменты, когда герои вынуждены спасать свою жизнь. В романе «Емельян Пугачев», где мотив переодевания пронизывает все произведение и возникает на разных уровнях, помимо придворного и пугачевского миров, «спасительные» костюмы являют полную противоположность истинному социальному положению или половой принадлежности персонажей: архимандрит переодевается в крестьянина, француз-управляющий (мужчина) – в женщину. Попытки спасения проявляются как стремление максимально уйти от своего привычного облика, отсюда и подробное описание костюмов-масок, представленное в тексте.
Психологическая функция может реализовываться и на ином уровне: в XVIII веке маскарад и переодевание как его неотъемлемая часть становятся не только культурной, но и психологической доминантой эпохи. Придворная жизнь диктует необходимость маски. Например, в романе В. Я. Шишкова Екатерина долго носит траур по Елизавете, но на это есть особая причина, не связанная с этикетом или отношением молодой женщины к умершей императрице: широкое траурное платье скрывает беременность. Писатель использует театральный прием переодевания со всеми его атрибутами, когда Екатерина собирается на тайное свидание с Орловым: «– Я в мужском костюме, в широком плаще, в шляпе, надвинутой на глаза, выхожу вместе с вами? – засмеялась царица. – Нет, лучше оденьтесь Катериной Ивановной, вашей камеристкой… – Нет, нет, мужчиной! Пусть Гришенька не сразу узнает меня» [5, с. 172]. Костюм играет роль маски, позволяющей незаметно уйти из дворца, и служит средством любовной игры с фаворитом. В данной сцене реализуются древние, глубоко сакральные представления о взаимоотношениях полов, связанные с переодеванием. О. М. Фрейденберг в «Поэтике сюжета и жанра», останавливаясь на специфике и семантике перемены одежды, отмечает: «Например, можно представить производительный акт в виде брака… или просто в виде женско-мужского переодевания» [4, с. 228]. Таким образом, психологическая функция тесно смыкается с культурной в ее сакральном аспекте.
Не менее интересной представляется и еще одна функция мотива переодевания, которая отчетливо проявляется в эпизодах, связанных с борьбой за власть, условно обозначим ее как «политическую». В период обострения политической борьбы костюм может оказать помощь и поддержку, а может сослужить плохую службу. Одежда, создавая пластический образ выступающего перед народом и призывающего к чему-то человека или молчащего, но просто претендующего на роль лидера, оказывает определенное психологическое воздействие на публику. В этом случае правильный выбор костюма может решить все. Рассмотрим две сцены из романа «Петр Первый», в которых переодевание играет важную роль. Первая связана с проведением переговоров князей Хованского и Голицына со стрельцами: «От Спасских ворот по санному следу скакали два всадника. Передний – в стрелецком клюквенном кафтане, в заломленном колпаке. Кривая сабля его, усыпанная алмазами, билась по бархатному чепраку. <…> Стрельцы, завидя, что он в стрелецком кафтане, закричали: – С нами, с нами, Иван Андреевич! – и побежали к нему. <…> Другой, подъехавший не так шибко, был Василий Васильевич Голицын. <…> Люди, разинув рты, глядели на его парчовую шубу, – пол-Москвы можно купить за такую шубу, – глядели на самоцветные перстни на его руке, что похлопывала коня, – огонь брызгал от перстней» [3, с. 35]. На первый взгляд переодевание в стрелецкий кафтан сыграло важную роль: князя признали своим и стали слушать, но удачный эффект испортила роскошная шуба Голицына. Хотя Хованского продолжают слушать, одежда Василия Васильевича демонстрирует ложность показной заботы князей о судьбе стрельцов. Данный эпизод соотносится со словами боярина Волкова о социальных неурядицах: «… кто в боярской-то шубе, и не езди за Москву-реку» [3, с. 15]. За Москвой-рекой находится стрелецкая слобода, а стрельцы не жалуют бояр, так как казна задолжала жалование и прежних вольностей уже нет. Таким образом, роскошная голицынская шуба воспринимается как символ оппозиционного лагеря и коммуникация князей со стрельцами становится бесперспективной.
Другой пример – сцена, когда Петр принимает переходящих на его сторону людей (своеобразная присяга): «Царь Петр, стоя на крыльце, одетый в русское платье, – с ним Борис Голицын, обе царицы и патриарх, – жаловал чаркой водки приходящих…» [3, с. 174]; «Царь, одетый в русское платье, – в чистых ручках шелковый платочек, – был смирен, голова опущена, лицо худое» [3, с. 176]. Автор дважды делает акцент на русском платье царя. Здесь костюм играет роль важнейшего средства политического воздействия. Хотя русский наряд неудобен, не нравится Петру (царь, признаваясь Меньшикову, что для него ехать в Москву – «это хуже не знаю чего» [3, с. 109], перечисляет ненавистные занятия в столице, а среди них и надевание, а следовательно, и ношение барм), но политическая обстановка диктует необходимость подобного переодевания: войска, бояре и духовенство, перебежавшие в Троицу, просто бы не приняли государя в иноземной одежде. А. Н. Толстой талантливо использовал возможности костюма в двух обстановках, подчеркнув при этом различие политических противников. Сторонники царевны совершили ошибку, и суть психологического воздействия на людей свелась почти к нулю из-за одного упущения. Петр сумел избежать подобного, и, хотя царя тяготила его маска, она превосходно справилась со своей функцией: народ увидел настоящего русского царя и шел к нему с клятвой о верности.
Изображая дворцовый переворот в романе «Емельян Пугачев», В. Я. Шишков подчиняет героев стихии «маскарада с переодеваниями» [5, с. 270]. Екатерина встает во главе преданных ей войск, переодевшись в форму лейб-гвардии Семеновского полка с андреевской лентой. Уже здесь можно говорить о появлении новой правительницы: власть перешла к ней вместе с одним из сопутствующих атрибутов – андреевской лентой. В свою очередь, пытаясь отстоять право на российский престол, Петр III идет даже на смену костюма: «Тогда он сбросил с себя прусский мундир с прусской лентой и велел лакеям облечь его в мундир русский и возложить все знаки отличия Российской империи» [5, с. 267]. Костюм становится своеобразной маской, надев которую император полагает, что сможет изменить ход событий или хотя бы спасти свою жизнь. Однако он примеряет на себя чужую маску: «своим» для него является прусский мундир, который несколько раз возникает на страницах романа как основная одежда Петра III. В минуту реальной опасности Петр отказывается от «своего» прусского костюма и надевает «чужой», русский, который не сможет стать спасительным, так как император всегда презирал его. Смена костюма становится для Петра III последней попыткой восстановить статус-кво, а Андреевская лента воспринимается как ключ к спасительному Кронштадту: «Петр <…> сбросил плащ и, выставив Андреевскую через плечо ленту, резким голосом приказал: – Караульный, всмотрись! Пред тобой сам император Петр!» [5, с. 275]. Интересен символический смысл этой костюмной детали: как только Екатерина надевает андреевскую ленту, тот же самый аксессуар теряет свое «сакральное» значение и перестает «работать» у Петра III.
Через некоторое время «маскарад с переодеваниями» начинается в жизни донского казака Пугачева. Для мнимого императора «чужой» костюм – вынужденная необходимость, так как часто «народный» Петр III обязан своим «материальным» воплощением именно костюму-маске. В романе возникают ситуации, где народ принимает Пугачева за простого человека, если на нем армяк, холщовая рубаха, обычная казацкая «сряда». На первых порах, используя возможности своего «скромного» костюма, герой подкрепляет легенду о царе-страдальце за народное счастье. Входя в роль императора, Пугачев стремится сменить наряд, чтобы народ признавал в нем царя: «…Пугачев в новом наряде был неузнаваем. Сверкая на солнце золотыми позументами зеленого зипуна, лихо надвинув на густые брови бархатную шапку-трухменку, он важно прохаживался по луговине…» [5, с. 755]. Ключевое слово – «неузнаваем»; костюм четко выполняет свою доминантную функцию, превращая казака в «императора». В дальнейшем мы видим довольно большое разнообразие одежды лже-императора, но предназначение костюма – маска – сохраняется.
Рассматриваемые нами функции не существуют изолированно, их взаимосвязи подчеркивают значимость исследуемого мотива в тексте. Табуированное с давних пор переодевание женщины в мужчину и наоборот определяет ряд смысловых доминант произведения В. С. Пикуля «Пером и шпагой»: культурно-историческую, маркирующую галантный век с его эротико-игровыми аспектами, политическую (или, точнее, шпионскую) и психологическую. Эти функции взаимодействуют друг с другом, создавая особое игровое пространство романа о судьбах дипломатов, шпионов и авантюристов. Маскарадное переодевание в женское платье на празднике в ратуше сыграло значимую роль в судьбе героя: кавалер де Эон был замечен всемогущей фавориткой Людовика XV – мадам Помпадур. Несмотря на то, что автор уточняет: данный случай скорее всего легенда, – внимание к этой истории оказывается необходимым, так как именно это шуточное переодевание приведет героя в мир «секретной дипломатии» [2, с. 41]. Таким образом, в тексте наблюдается трансформация культурно-исторической (социально-культурной) функции переодевания (безусловно, маскарад – неотъемлемый компонент культуры XVIII века), которая определяла лишь частный эпизод в жизни героя, в политическую (в данном случае – в шпионскую), связанную с судьбами государств.
Нетрудно убедиться, что мотив переодевания, как сущностный для понимания авторской концепции смысловой элемент, играет важную роль в историческом романе ХХ века, иногда даже формируя определенное маскарадно-игровое пространство произведения, например, в «Емельяне Пугачеве» В. Я. Шишкова. Рассмотренные нами примеры позволяют выделить ряд функций, которые выполняет переодевание в исторических романах ХХ века. Во-первых, следует говорить о социально-культурной роли, обусловленной особенностями конкретной эпохи. Костюм является важнейшей составляющей культуры нации, поэтому смена одежды, тем более в государственном масштабе, несет новые социально-культурные ориентиры. Особенно это характерно для романов о петровской эпохе. Вытесняя атрибуты сословной иерархии, например горлатную шапку, иноземное платье временно нивелирует социальные различия (костюм одинаково непривычен и для боярина Буйносова, и для крестьянина Бровкина) и открывает широкие возможности для «продвижения» талантливых людей, невзирая на их социальный статус. Как особую разновидность социально-культурной функции можно отметить маскарадную, знаковую и для эпохи Петра, и для всего XVIII века.
Во-вторых, необходимо отметить тесно связанную с первой, но в силу своей важности самостоятельную, на наш взгляд, политическую (или «стратегическую») функцию. Переодевание становится в ряде случаев ключевым моментом в борьбе за власть, потому что удачно выбранная костюмная «маска» обеспечивает успешность политического хода.
Наконец, на личностном уровне переодевание выполняет психологическую функцию, становясь основой для идентификации самого человека и его окружения в системе «свой – чужой».
Tver State University