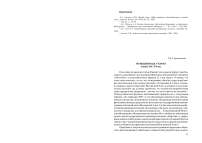Функции рода у бурят (конец XIX-XX вв.)
Автор: Скрынникова Татьяна Дмитриевна
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 26, 2010 года.
Бесплатный доступ
В употреблении термина «обог» можно отметить две сосуществующие тенденции. С одной стороны, этот термин маркирует кровно-родственные связи и, соответственно, может обозначать род как расширенную группу кровных родственников, состоящую из нескольких линиджей (уругов) нескольких поколений. Процесс смешения родов привел к образованию общностей, получивших название территориально-административных или просто административных родов. Это – вторая тенденция, которая не элиминировала значения кровного родства в жизни общества. Генеалогический принцип был актуален, сосуществуя с гетерогенной структурой общества, он выполнял функции социально-регулятивного механизма, легитимизируя обрядово-бытовую жизнедеятельность социума.
Обог, род, кровно-родственные связи, административный род
Короткий адрес: https://sciup.org/14913548
IDR: 14913548
Текст научной статьи Функции рода у бурят (конец XIX-XX вв.)
Последняя по времени статья Дэвида Снита демонстрирует необходимость дальнейшего исследования феномена, обозначаемого термином «обог/обок», у монголоязычных народов. Д. Снит пишет: «Главное, что стоит здесь отметить, это то, что, по-видимому, обок был структурой скорее политической, чем генеалогической»1. По мнению Д. Снита, «согласно данным о других обществах Внутренней Азии, о которых есть исторические сведения, мы должны заключить, что полностью разработанная структура родства “разрушена”, потому что ее мы просто не находим»2. И автор объясняет феномен, обозначаемый термином oboi , следующим образом: «fl утверждал (2007 г.), что объединение людей в группу, обозначаемую как группа унилинейных потомков, обладающая политическими функциями, являлась результатом деятельности государственной администрации в большей части Внутренней Азии. Где бы ни возникала всеобъемлющая кровнородственная организация, она была, по-видимому, продуктом государства, а не предшествовала ему… В средневековой Mонго-лии объединения, обозначенные как кланы (обог), вообще не напоминали модель предгосударственного кровнородственного общества, а, скорее, представляли собой проект властвующей аристократии. В царской России термин “род” (административный клан) также использовался как обозначение сообществ в управлении субъектами Внутренней Азии»3.
Обратимся к антропологическим исследованиям бурятского общества, представляющего собой одно из обществ Внутренней Азии, на кото- рые ссылается Д. Снит. «Термины, обозначающие род, довольно многочисленны… Употребление различных терминов в одном и том же смысле, а также вариации, встречающиеся в различных говорах, создают здесь значительную путаницу, которая была усугублена впоследствии мeроприя-тиями русских властей, в результате коих бурятский “род” был превращен в административно-фискальную единицу, мaло связанную с родовым членением бурят. Наиболее распространенными терминами были оток и обок (омок). Наряду с ними употреблялись термины яhaʜ (кость) и аймак4»5. Причем, как показывает материал летописей, термины отог и обог выступают в одном значении, маркируя определенный уровень социальной структуры ‒ род.
Эти термины, вопреки мнению Д. Снита, были наиболее употребляемыми для обозначения именно кровного родства патрилинейных групп, что нашло отражение в бурятских летописях6. Так, общность хори (хорин-ские буряты) называется Хориин отогууд 7 (хоринские роды) или развернуто ‒ «буряты 11 хоринских родов» ‒ хориин арбан нэгэн отогой буряа-дууд 8. На то, что термин отог/обог маркирует патрилинейное родство, указывает иное обозначение одиннадцати хоринских родов: «народ 11 хо-ринских отцов (родов)» ‒ хори 11 эсэгын зон 9, где слово эсэг дословно означает «отец». «Мы, народ 11 отцов отца - предка нашего Хори» ‒ бидэ 11 эсэгын зон узуур эсэгэ Хори10. В последнем случае эсэг выступает как обозначение предка/отца, но может выступать и для обозначения рода: «бидэ 11 эсэгын эрэ (мы, мужчины 11 родов)». Как видим, имя первопредка ‒ Хори, тогда как обозначения 11 хоринских родов соответствуют именам eго 11 детей: Галзууд, Хуасай, Хубдууд, Гушад, Шарайд, Хaргана, Бодонгууд, Худай, Батнай, Сaнаан, Халбин11. Описывая начало образования общности хори, Вандан fiмсунов, автор летописи, пишет, что они: «…хоорондоо обог обогоор гу, али яhaap болон булэг айлнуудааар хамта-ран нийлэдэг»12 ‒ «Между собой объединялись в роды , или в кости и в группы аилов » (перевод мой. ‒ Т.С. ). Здесь мы видим ту же структуру: хори (племя) ‒ роды ‒ кости (= уруг, линидж), причем подчеркивается именно кровнородственная связь.
Представляют интерес общности, обозначенные как группы айлов ‒ булэг айлнуудааар, которые приравниваются к кости. Что они из себя представляли, видно из следующего описания: «Родители мужа, eго братья, как родные, так и коллатеральные, жили рядом в особых юртах или домах, расположенных вокруг юрты предка, основателя урука. Этот круг имел общую городьбу, которая охватывала все юрты членов урука. Круг этот называется “булэг” или “ураг”»13. Таким образом мы можем видеть, что группа айлов, состоявшая из представителей нескольких поколений14, имеет и специальное терминологическое обозначение: “булэг” или “ураг”. Это локальное поселение, состоявшее из нескольких огороженных комплексов, может быть обозначено как линидж. Так, территория проживания семьи старшего брата огораживалась, «далее, рядом, вблизи, в другой подобной загороди живут ближайшие родственники главы первой группы юрт, например, его братья со своими семьями, со своим единокровным родом, ‒ и тут опять в одной общей загороди, посередине стоит юрта старшего в роде, по бокам же стоят юрты его сыновей. Дальше, в более отдаленных загородях, живут более отдаленные родственники»15. Как видно из текстов, жившие в поселении мужчины связаны между собой кровным родством. Более того, «в некоторых уруках дети называли всех мужчин возраста своего отца “баабай” (отец), причем для отличия их друг от друга и от своего отца прибавляли к этому слову “баабай” отличительные физические черты каждого. Всех женщин возраста своих матерей они называли “иибии” (мать), но опять-таки прибавляя к слову “иибии” отличительные черты, например, Тарган иибии, Будуун иибии (толстая. ‒ Т.С.), Найхан иибии (красивая. ‒ Т.С.)»16.
Mне удалось выявить в устной беседе с О.В. Шаглановой (этнолог, канд. ист.наук), что группа ее родственников, которая собирается в обряде на месте захоронения предка-шамана и именуется «Шаглантан», включает в себя как ближних (двоюродные, троюродные), так и дальних родственников, проживающих в разных районах Бурятии. Некоторые из них уже не носят эту фамилию (Шаглановы), но все члены группы связаны кровным родством и обозначаются как «ургаа» или «манай урагууд» («наши кровные родственники»). Обряд проводил дедушка ‒ старший по возрасту представитель урага/уруга. «Шаглантан ураг» является частью общности, которая обозначается как «тэртээ уг гарбалтан» («тэртээ по происхождению», т.е. в бурятской этнографии этноним «тэртээ» обозначает имя рода) и в которую входят другие кровнородственные ураги. Эта расширенная группа и сейчас собирается раз в 3‒4 года на р. Тэртээ у сэргэ, которое они называют родовым.
Несколько уругов составляли род (обог/отог/омог, аймаг, эсэгэ). Род ‒ это, прежде всего, генеалогическая структурная организация. И в этом контексте следовало бы подчеркнуть постоянную актуальность системы родства в социальной практике и по сей день17. Трудно сказать, можно ли обнаружить когда-либо и где-либо род (союз кровных родственников) как административно-хозяйственную локальную единицу, особенно учитывая характерную для кочевников мобильность. Например, для наблюдателей XVII‒XX вв. бурятский род, зафиксированный российской администрацией как административный, представлял собой конгломерат представителей разных родов, наименование его определяло название рода, ставшего ядром административного. Но при этом следует иметь в виду, что все сохраняли память о своей родовой принадлежности18. Из записки генерал-губернатора Восточной Сибири (1858 г.): «Часто случается, что кочующие инородцы, быв причислены к одному какому-либо роду, отлучаются из оного по недостатку удобных земель или для промысла в другие весьма отдаленные места, и, находя там больше средств к существованию, поселяются в этих местах, образовывают кочевья и остаются в них на постоянном жительстве»19.
Но наличие административного рода не элиминировало актуальности рода как союза кровных родственников, общность которых манифестируется и поныне в социальной практике. Прежде всего это проявляется в необходимости знания генеалогии. «Род у бурят был патрилинейный, родство считалось по отцовской линии, поэтому при заключении браков соблюдалась патрилинейная экзогамия ( хари халуун «чужой»/«свой»). Брак между родственниками ( аха дуу ) по отцу запрещался вплоть до седьмого колена ‒ уе . …Знание правил родства считалось обязательным, за их соблюдением следили очень строго. В каждой общине были известны старики специалисты ‒ уе тоологшо убгэд (старики, считающие поколения. ‒ Т.С. ), которые досконально знали, кто из какого рода, у кого какая наследственность, они имели право наложения запрета на брак, говоря уе халаа-гуй ‒ “родство не прервалось”. Поэтому детей с малых лет знакомили с генеалогическим родовым древом, особенно по мужской линии»20.
Это единство, память о котором хранила генеалогия, манифестировалось в обрядово-бытовой сфере. Так, в поселениях, где проживало гетерогенное население, «гости, приехавшие к одному из членов того или иного аймака (рода. ‒ Т.С. ), считались общими гостями (этого рода. ‒ Т.С. )»21. Наибольшее значение генеалогический принцип имел в ритуальной практике. «…В городах сейчас тоже принято обращаться к наследию прошлого в культово-обрядовой сфере. Примером ретроспективной модификации является традиция посещения “колыбельной родины”, земли предков с целью поклонения ( угаа тахиха , узуурта мургэхэ ). Отметим, что через все модифицированные формы обрядов красной нитью проходит идея социализирующей роли предков, как мифологических, так и прежде всего реальных»22.
«В ритуале конструируется особого рода реальность ‒ семиотический двойник того, что было в первый раз. Ритуальная реальность с точки зрения архаического сознания ‒ подлинная, единственно истинная реальность. Ритуал как бы высвечивает ту сторону вещей, действий, явлений, которые в обыденной жизни не видны, но на самом деле определяют их истинную суть и назначение»23. Действительно, как показывают этнографические материалы, в ритуале моделируются границы сообщества, и ритуалом эти границы подтверждаются или легитимируются. Особенно показательными являются общественные социально значимые календарные обряды ‒ тайлганы. Необходимо подчеркнуть, что уже в XVII в. отмечаются поселения этнически гетерогенные (тайлганы в рамках территориальной общности), тайлганы, проводимые в рамках одной этнической группы, не утратили своей актуальности. Hапример, представители рода Олзон, проживающие в селе Хандала24 на южном побережье Байкала, куда они переселились, согласно преданию, из Прибайкалья на рубеже XVII ‒XVIII вв., в течение весенне-летне-осеннего периода совершали четыре тайлга-на25. В этих тайлганах читались ритуальные тексты, в которых упоминались родовые места прежнего проживания в Прибайкалье: горы Байтаг26, Ур-сал, где похоронены многие шаманы-предки, Капсал, где похоронен шаман-предок Mанхар27. Таким образом ежегодно ревитализуется и актуализируется принадлежность к определенному роду, границы которого очерчиваются участниками обряда, принадлежащими только к роду Олзон.
Отколовшиеся части рода принадлежат одновременно двум общностям: основному роду (по кровнородственной принадлежности) и административной общности (по территории проживания) ‒ административному роду. Соответственно и тайлганы бывают двух типов. С одной стороны, моделировалась родовая принадлежность: «По принципу организации все тайлганы делились на большие ‒ “ехэ” и малые ‒ “бага”. В устройстве “ехэ” тайлгана принимали участие все члены одного рода, проживавшие в разных улусах, или союза родственных родов, а “бага” тайлганы устраивали члены рода, проживавшие в одном улусе28»29. Другой тип тайлгана моделировал территориальную общность: «Все роды, проживавшие в селе Хандала, один раз в году устраивали общеулусный большой тайлган»30.
В заключение можно сказать следующее. В употреблении термина «обог» можно отметить две сосуществующие и достаточно очевидные тенденции. С одной стороны, этот термин маркирует кровно-родственные связи (и именно это прежде всего) и, соответственно, может обозначать род как расширенную группу кровных родственников, состоящую из нескольких линиджей (уругов) нескольких поколений. Причем территориально род расселяется дислокально, что происходило во все времена и повсеместно. Это было обусловлено как тем, что размеры территории могли уже не соответствовать (не вмещать) расширившейся общности, так и конфликтами между ее членами. Группы, отколовшиеся от основного рода и сохранявшие первоначальное имя, могли входить в другие объединения. Эти общности, состоявшие из родственных и чужеродных уру-гов, также назывались родом и носили имя того рода, которое составило ядро данной общности. Процесс смешения родов привел к образованию общностей, получивших название территориально-административных или просто административных родов. Это ‒ вторая тенденция, которая не элиминировала значения кровного родства в жизни общества. Генеалогический принцип был актуален, сосуществуя с гетерогенной структурой общества, он выполнял функции социально-регулятивного механизма, легитимизируя обрядово-бытовую жизнедеятельность социума. И хотя отделившиеся этнические общности проживали с чужеродцами, «они помнят свое происхождение и связь с основным родом»31.
Нам представляется, что не стоит пренебрегать конкретными исследованиями по культурной и социальной антропологии, представители ко- торых продуктивно используют в своей работе различные аналитические методы: сравнительно-исторический, типологический, структурно-функциональный и другие. Бурятский материал подтверждает типологический характер социально-потестарной структуры, где обог соответствует клану ‒ коллективу кровных родственников.
Список литературы Функции рода у бурят (конец XIX-XX вв.)
- Sneath D. Tribe, Ethnos, Nation: Rethinking Evolutionist Social Theory and Representations of Nomadic Inner Asia//Ab Imperio. 2009. № 4. P. 93.
- Рыкин П.О. Социальная группа и ее название в среднемонгольском языке: понятия irgen и oboq//Антропологический форум. 2004. № 1. С. 179-208.
- Бурятские летописи/Сост. Ш.Б. Чимитдоржиев, Ц.П. Ванчикова. Улан-Удэ, 1995. С. 103, 108 и далее.
- Буряадай туухэ бэшэгуудэ/Сост. Ш.Б. Чимитдоржиев. Улан-Удэ, 1992. С. 126, 131 и далее.
- Залкинд Е.М. Присоединение Бурятии к России. Улан-Удэ, 1958. С. 222.
- Балдаев С.П. Бурятские свадебные обряды. Улан-Удэ, 1959. С. 20.
- Сыденова Р.П. Улусная община западных бурят (вторая половина XIX -начало XX в.). Улан-Удэ, 2003. С. 42.
- Щапов А.П. Бурятская улусная родовая община//Известия ВСОРГО. 1875. Т. 5. № 3-4. С. 129.
- Цыдендамбаев Ц.Б. Бурятские исторические хроники и родословные. Улан-Удэ, 1972. С. 85.
- Галданова Г.Р. Свадебная и погребально-поминальная обрядность: социальные и мировоззренческие аспекты//Обряды в традиционной культуре бурят. М., 2002. С. 113.
- Богданов М.Н. Очерки истории бурят-монгольского народа. Верхнеудинск, 1926. С. 95.
- Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. СПб., 1993. С. 17.
- Дашиева Н.Б. Бурятские тайлганы. Улан-Удэ, 2001. С. 19.
- Петри Б.Э. Элементы родовой связи у северных бурят//Сибирская старина. Вып. 2. Иркутск, 1924. С. 112.