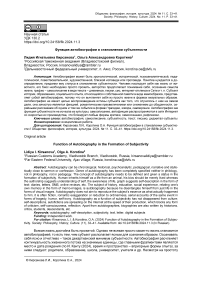Функция автобиографии в становлении субъектности
Автор: Кирсанова Л.И., Коротина О.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 11, 2024 года.
Бесплатный доступ
Автобиография может быть хронологической, исторической, психоаналитической, педагогической, повествовательной, художественной, близкой исповеди или проповеди. Понятие нуждается в доопределении, придании ему статуса в становлении субъектности. Человек наследует себя как жизнь от животного, его биос необходимо просто прожить, авторство предполагает понимание себя, осознание смысла жизни, графио - самоописание в виде текста - дневников, писем, смс, интернет-откликов в Сети и т. п. Субъект истории, образования, социального опыта, относящийся к собственной памяти в виде мемообразов, представляет собой автобиографию, потому что он вычленяет себя из просто жизни в формах визуальных образов. Автобиография не имеет целью воспроизведение истины субъекта как того, что случилось с ним на самом деле, она зачастую является фикцией, романтическим преувеличением или снижением до обыденности, серийными рассказами об одном и том же событии в формах трагедии, юмора, самоиронии. Автобиография как функция субъектности не исчезла из культуры, самоописание, автофикции распространяются в сети Интернет со скоростью их производства, что блокирует любые формы критики, самосознания, рефлексии.
Автобиография, самоописание, субъектность, текст, письмо, диджитал-субъекты
Короткий адрес: https://sciup.org/149147063
IDR: 149147063 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2024.11.3
Текст научной статьи Функция автобиографии в становлении субъектности
подобного мыслительного действия – расчленение и собирание смыслов, оно позволяет открывать и скрывать, включать что-то из сообщения или исключать. Гораздо большее значение имеет факт исключения чего-то из автобиографии: запретить говорить, утаить, обмануть и проч. Это может дать повод для психоаналитического, идеологического или политического истолкования.
Функция автобиографии не является единственной в ряду других: категория функции подчеркивает процессуальность и открытость рассказа о себе, принципиальную незавершенность субъекта, и даже смерть автора не ставит точку. Способностью прервать жизненный поток обладает не только письмо в дерридарианском смысле, но и перформатив – клятва, призыв, приказ.
Автобиография не всегда имеет завершение в форме биографии, это привилегия немногих. Биографию пишет Другой или другие – литературоведы, историки, исследователи и др. Биографии пишут и переписывают. Фигура Другого-биографа важна как возможность иметь результат в виде относительного завершенного целого в форме субъекта. Наличие биографии означает, что человек состоялся как субъект своей собственной жизни.
Следует более точно определить цели и задачи настоящей работы. Каким образом человек становится субъектом своей жизни? Она лишена цели и смысла, не имеет формы личной истории. Когда субъект рассказывает о себе, записывает события своей жизни, прибегает к письму – дневникам, запискам и др., когда рассматривает альбом с семейными фотографиями, он становится субъектом, вписывает себя не в астрономическое или всеобщее событийное время, а обретает СВОЕ время.
Возможна ли типизация философских автобиографий, доступны ли такие формы рационализации, которые позволяют распознавать и классифицировать варианты автобиографирования с целью исследовать их функции в формировании субъектности?
Чем отличается автобиография-переживание Л. Витгенштайна от риторической автобиографии Л. Троцкого, который является политическим философом, каким он предстает в книге «Моя жизнь»1? Сопоставление отдаленного часто дает лучшие результаты, чем сравнение с ближайшим.
Возможно ли считать автобиографиями «Исповедь» Августина2 и краткое «Евангелие» Л. Толстого3? На часть этих вопросов имеются ответы в тексте настоящей статьи, другие требуют дополнительного исследования.
Гуманитарная наука располагает достаточным количеством методов, чтобы представить в эксплицитной форме скрытые смыслы автобиографируемых. Мы использовали следующие: метод феноменологии, обращение к гуссерлевскому концепту «жизненного мира», методы философской герменевтики Г. Гадамера и П. Рикера, методы психоанализа, фрейдовский опыт составления психобиографий, метод структурной лингвистики Р. Барта и др.
Человек не дан самому себе в форме субъекта завершенного бытия, осознающего себя, исполненного смысла. Психоанализ, феноменология, герменевтика аналитическая философия опровергли миф о прозрачности субъекта для самого себя. Первоначально кажется, что субъект возникает сам по себе из «прима»-материи, из человеческого субстрата, из ничего, без промежуточных стадий. Однако всякий ли, рожденный человеком, становится субъектом?
Первичным основанием человеческого бытия является жизнь как таковая, тот чистый биос, который нами унаследован от животного. Ничто так не отчуждено от нас самих, как наша животная жизнь, из которой мы произошли. Органическая часть нашего существования имеет форму безмолвного мира, который изредка нарушается аффектами боли, страха, агрессии. В биографии смыслом первичной основы слова является жизнь как таковая, жизнь сама по себе, как она есть.
Современный философ и богослов Дж. Агамбен называет это бытие «голой жизнью», еще точнее, zoe (Агамбен, 2011). Аристотель биосом считал правильную жизнь, соответствующую добродетели, справедливости и др. (Аристотель, 2018). М. Фуко, исследователь биополитики, полагал, что в современном мире zoe и биос стали тождественными (Фуко, 1996), что позволяет нам употреблять понятие «биос» как характеристику жизни как «дикого бытия» (Мерло-Понти, 1999), возникающего спонтанно в виде факта самого порождения из взаимопроникновения и конфликта сил земли, огня, воды, воздуха и т.д. (Фуко, 1996). В биосе находит отражение сила Земли как укорененность, если угодно, как принадлежность человека территории, как Огонь, что дает тепло и пищу, как Солнце, что позволяет различать ночь и день, свет и тьму, рассеивать ужас ночи, придавать очертаниям вещей и животных соразмерную человеку форму. Вода является основой всего живого, она дана нам, чтобы пить и тем поддерживать циркуляцию всех жидкостей в организме, прежде всего крови и лимфы.
Человек как факт жизни обделен субъектностью так же, как камень, растение или животное. Но не следует застревать на этой обделенности, как это делает Дж. Агамбен (Агамбен, 2012). Человек наделен связью с Космосом, о единстве макрокосмоса и микрокосмоса хорошо знали греки – от Фалеса до Парменида. Имманентность жизни в мире не означает гармонии: инстинкты борются в человеке, что служит основой страхов, боли, аффектов. Прекрасно выразил мысль о неоднозначности связи человека и мира Г. Башляр, автор книги «Психоанализ огня»: «Огонь – это сияние Рая и пекло Преисподней, ласка и пытка, кухонный очаг и апокалипсис» (Башляр, 1993).
Человек – всегда позже природы, он только ее эхо. Земля возникла и может существовать без него, тогда как человек не может парить в невесомости. Современные космические эксперименты землян не опровергают того факта, что нашей родиной остается Земля, Воздух, Вода и др. Человек в присутствии сил бытия – всего лишь отражение их могущества, удвоение Космоса по его подобию. Природа, народ, родина – однокоренные слова. Однако спонтанность и вездесущность воспроизведения народа сегодня тотально зависят от политики в сфере рождаемости, здоровья, миграции населения. Человек современный является объектом биополитики, манипуляции со стороны власти, ее образовательных и медийных технологий. Рождаемость, уровень здоровья, продолжительность жизни, миграция стали заботой власти. Принуждать жить – такова новая ее стратегия, по мнению М. Фуко (Фуко, 1996). Человек подвержен такого рода влияниям – он заботится о питании, здоровом образе жизни, вместительности и чистоте жилища и др. М. Фуко же обосновал стратегию «заботы о себе», о необходимости овладеть жизнью своим собственным образом. Стать субъектом собственной жизни означает разорвать связь с «голой жизнью», благодаря чему ее часть превращается в человеческую, осмысленную, сознательную. Субъектность – это знание о себе, полное, ясное и отчетливое – так завещано человеку от Сократа до Декарта. Не следует преувеличивать силу рефлексии, часть жизни остается «животной», окончательное преобразование не удается, в этом зазоре между жизнью как таковой и субъектностью располагается психоаналитический субъект с его неврозами и психопатиями. В эпоху М. Хайдеггера преобладала романтическая иллюзия, что силой мышления человек способен пересоздать природу (Хайдеггер, 2011). Человек создает разрыв между объектностью и субъектностью мира, учреждает трещину в бытии между Космосом и собой, и он способен существовать в этом зазоре, хотя бы в форме ностальгии.
Человек испытывает тоску по природному существованию. Намерение сближения, возвращения «домой» питало многочисленные метафизические и художественные иллюзии ХХ в. и отчасти перекочевало в ХХI в виде «зеленой повестки», Гретты Тунберг и т. п.
Судьба человека могла бы сложиться иначе: близость к природе вплоть до полного слияния с ней означала бы существование без Логоса, но с Голосом, без образов, без саморефлек-сии, без мышления. Человек в своей истории выбрал себя – стать Субъектом, он создал поэзию, живопись, архитектуру, музыку, веру и др. Субъект на поверхности мира записывает иероглифы произведения себя, своей субъектности, разрывает с внешними условиями жизни, стирает следы своего происхождения из природы. Он вынужденно деформирует ее силы, меняет конфигурацию полов и процесс деторождения, кроит мир «под себя» и становится автономным субъектом. Сегодня мы стали свидетелями и участникам «убывания» природы и увеличения человеческого воздействия, безразличного к ее сохранению. Природа культивируется как объект любования для туристов, то есть служит туриндустрии. Силы природы человек превратил в обычные вещи – камин, электричество, автомобиль, телефон. Человечество как совокупный субъект от Америки до Африки, Египта и России не собирается отказываться от комфорта общества потребления. Следовательно, становление субъектности стало судьбой человека.
Что бы могла делать природа в человеке без субъектности? Просто жить, без вины, но и без совести. Больная совесть неизвестна животному. Зверь, убивая другого зверя, не мучается виной. Животное бессовестно, потому что оно суть природа. На пути становления субъекта были не только потери, но и приобретения – мораль, вина, совесть. Человек кое-что утратил от сил природы, но приобрел фигуративность, и не только в виде тела. Природа звучит, в ней есть звуки, но нет мелодии. Человек озвучивает природу в виде музыки и тем самым извлекает себя из объективного бытия.
В этой точке к биосу присоединяется автобиография. Еще раз уточним: субъект врезает себя в природу посредством жеста, фигуры тела, Логоса и письма. Первым голосом, каким человек окликает природу, зверя и сородичей является акусматический, как называет его люблянский психоаналитик Младен Доллар (Доллар, 2018). Это, скорее, голос животного – сильный, простой, эффективный. Голос нацистского вождя – Адольфа Гитлера – был образцом акусматического голоса, на это обратил внимание российский философ В. Подорога (Подорога, 2017). Аристотель произвел различение между апофатическим и перформативным дискурсами, первый отвечает на вопрос о сущем как таком – что есть вещь, второй – отождествляет слово и действие (Аристо- тель, 2012). Перформатив является началом письма. Представитель герменевтической философии и знаток мифологий Г. Гадамер утверждал, что говорить и делать – это одно и то же, к перформативам он относил такие формы, как призыв, приказ, приговор и др. (Гадамер, 1988).
Жак Деррида в работе «О грамматологии» (2000) обратил внимание на озвучивание бытия в виде пения, он утверждал, что песнопение предшествует письму, то есть Голос предшествует Логосу. Произносимое ребенком остается талантливым подражанием природе, он озвучивает то, что слышит, раньше всего – голос матери и т. п. В своем истоке речь воспроизводит бытийное звучание Космоса, это то изначальное слушание-говорение, к чему пытается в дальнейшем пробиться лучшая поэзия.
А.С. Пушкин, В. Маяковский, Б. Пастернак, М. Цветаева заставили говорить бытие в его звучащем облике. Поэзия остается хранителем звучащего бытия, его мелодики, чувственности и проч.
Д.С. Лихачев в статье «Первобытный примитивизм воровской речи» высказал неожиданную мысль о том, что русский жаргон сохранил связь с первобытностью вещей, вобрал их бытийную весомость (печка – сгореть – полицейский участок) (Лихачев, 1935). Воровская речь отсылает пользователей языка к его истокам, она материализует говорение, овеществляет его. Не то же самое делает русское матерное слово? Бытие в языке говорит всегда, но часто голос его не слышен. В грамматике и синтаксисе человечество изменило бытию, привнесло в него ту бесчувственность, которая свойственна цифре. В языке появились шаблоны, штампы, слоганы, лингвистический мусор. Рационализированный цифровой язык современности утратил связь с органическими формами речи.
В попытках абитуриентов написать автобиографию преобладают штампы, медийные слоганы, канцелярские обороты. Способность рассказать о себе простым языком, выразить свое отношение к месту рождения, родителям, учителям, то есть высказать себя на уровне чувств, эмоций, настроения, как имманентность жизни практически утрачена современным поколением. В «школьных» автобиографиях авторы используют онтическую машину речи, которая работает как механизм, как бы сама по себе1. Эмоциональные связи с миром утрачены и заменены логикограмматическими формами, что является, по-видимому, более безопасным видом контакта с социумом, политикой, властью.
Кроме грамматики и логики языка, в потере бытийственности речи особую роль играет визуализация реальности. Видеть и смотреть – действия, которые обращены к разным способностям разума: смотреть – значит определять вещи согласно форме, количеству, протяженности и др., видеть – это рефлексивная процедура ума, обращенная к сущности предмета. Наша способность смотреть обусловлена наличием особого органа зрения – глаза, благодаря которому мы принуждены выносить видимое за пределы собственного Я, создавать дистанцию между собой и вещью и тем самым объективировать бытие, различать, определять, классифицировать, исцелять. Видим мы не глазом, а Оком. Око и Дух – однопорядковые свойства разума. Опредмечивая мир, отделяя видящего от видимого, субъект тем самым отграничивает и себя от мира, членит его, фрагментирует, замечает подробности, но не схватывает целого. Единое и целое схватываются духом, внутренним взглядом субъекта, обращенным на самого себя. Внешнее мы классифицируем, превращаем в цифру, целое же является результатом саморефлексии с привлечением процедур осмысления мира своим собственным образом. Такого рода овнешнение мира, как полагал Жак Лакан, заложено в самой природе человека: на «стадии зеркала» субъект овладевает своей субъектностью не в качестве сущего как такового, а в виде визуального образа, внешнего по отношению к эго-субъекту, зачастую преждевременного и потому тотально отчужденного2.
В итоге оказывается, что внешняя форма, образ Я, заданный Другим, подчиняет внутреннее внешнему. Допустим, в норме взрослый обладает лучшей внешней формой самого себя, большей скоординированностью движений и навязывает свой визуальный образ ребенку, например, как отец сыну. Визуальная кастрация ребенка служит почвой для последующей его невротизации во взрослой жизни. Визуализация бытия не одномоментный шаг к субъектности, он предстает как сумма визуализаций, к которой сегодня присоединяется вся медийная реальность – конкурсы красоты, демонстрация тел-манекенов, топ-моделей, фото- и кинопродукты.
Состояние современной культуры характеризуется как визуальный поворот. Началом его является вовсе не портретная живопись, слишком редкий и дорогостоящий продукт, а фотография. Легкость распознавания себя внешним образом на снимке позволяет эго-субъекту переопределять себя не как внутреннюю жизнь сознания и духа, а как фигуру тела, как жест, улыбку, прическу, разрез глаз, профиль, форму носа и проч.
Встречают по форме, определяют по бренду одежды, стилю косметики, из-за чего явно вытесняется внутреннее – эмоциональность, чувственность. А. Розенбаум печально констатирует: «И девочки как куклы заводные»1. В селфи-фото – взгляд в себя – соединяются две стратегии: специфика собственно фотографии и привнесение в жертву внутреннего смысла внешнему образу. Коротко о фотографии: она запечатлевает мгновение жизни. Эта вещь есть то-то – ваза, трубка, лицо, то есть констатируется данность в виде очевидного и достоверного. В эпоху фейков, подделок и имитаций тяга к удостоверению Я, к ясности и очевидности самосубъектно-сти перевешивает интерес к экзотике и чрезмерности самой реальности. Подтверждение идентичности субъект ищет не в действительности, а в самом себе, опорой для этого становится селфи-фото. Оно минимизирует такие характеристики вещи, как динамика (на фото изображение неподвижно), временные изменения (я такой сейчас и таким останусь навсегда, посмотрите на заставки аватаров), привязки к месту и времени, крупный план селфи выделяет лицо из ландшафта чего бы то ни было.
Фотография констатирует наличие некоторых внешних очевидностей как форму самодан-ного, вневременного, внепространственного существования и прочего. Изменяются априорные формы опыта – время и пространство.
Фото-селфи является результатом садомазохистского взгляда. Садистский его характер состоит в том, что он представляет собой взгляд распознавания, учета и классификации: серии фотоснимков подтверждают не различенность, а наличие. Мазохизм проявляется в само-представлении себя, в постановке под вопрос того, кто на фото, в самоподвешении. Фото-селфи предстает как подпорка для эго-субъекта и одновременно как самоистязание: нужно принять необходимую позу тела, сделать лицо, растянуть рот в улыбке. Такого типа фото-селфи могут стать фактом психобиографии, предметом для работы психоаналитика и психотерапевта.
Распространению фотографии, в том числе селфи, способствовало упрощение технических средств производства снимков – от компьютеров до андроидов. Фотозрение стало повсеместным, доступным, легким способом удостоверения себя. Для человека повседневности фотоувеличение является простым и безответственным способом автобиографирования. Обыватель овладел способом размещать себя в центре вещей, людей, мира в целом. Эго-субъект современности – это нарцисс. С диагностированием у современной цивилизации нарциссического невроза согласны психоаналитики, социологи, философы, педагоги и др. Началом осмысления работы фотоувеличения стала книга Р. Барта «Камера lucida» (2013), светлая камера, в которой он на теоретическом уровне суммировал некоторые приемы фотоидентификации субъекта.
Какими способами, приемами пользуется субъект, чтобы представать перед самим собой в форме образа, невозможно однозначно исчислить, однако укажем на существенные. Фотография затронула отношения к телесности: тела-манекены, созданные медиареальностью моды, кино, видео-арта и т. п., принудили обывателя к подражанию. Вычурность поз, эксцентричность жестов, преувеличенность в мимике лиц, карнавальность цветов и форм одежды, причесок, окраса волос все более отчуждает человека от опоры на внутреннее. Все ради селфи – молодые люди совершают безумные поступки, чтобы получить хороший снимок. Визуальная кастрация урезает внутреннее чувство, деформирует переживание себя своим собственным образом, множит масочность и фрагментарность личины. Связь между собственной жизнью, такой, какова она есть, и той персоной, которую человек носит с целью мимикрии, разрывается в пользу симуляций. Ж. Бодрийяр, французский социолог, определил современного человека общества потребления как симулякра (Бодрийяр, 2024).
Существенную деформацию в возможность иметь автобиографию вносит Интернет. Фотоселфи размещаются в Сети со скоростью, равной созданию самого фото-«произведения». Блокируются такие формы самосознания и самоосмысления, как критика, юмор, ирония, рефлексия и др. Как в литературе «быстрое письмо», графоманское по-существу, вытеснило профессиональных литераторов, так и в фотографии художников, мастеров жанра заперли в галереях и музеях, а пространство Сети заполнили неумелые любители со своими фотопустышками. Эпоха профанов создает никчемные фотосамо-презентации без всякого вкуса, стиля, типа «Я и Эрмитаж»: «на фоне Пушкина снимается семейство…» (Б. Окуджава2). Памятники культуры стали фоном для самопрезентации человека повседневности. Процедуры субъективации всегда были сложными: чтобы обрести особое выражение лица, требовалось время, хорошее образование, жизненный опыт, уроки саморефлексии и др.
Значительно проще использовать памятники культуры в качестве «задней стенки» для поддержки самоидентификации. Фото как попытки субъектности могут быть простыми: снимают детей, животных, свадьбы, экзотические праздники и ритуалы, спортивные достижения и т. п. с обязательным врезанием себя в качестве центра снимка. Интересный факт приводит Р. Барт в статье «Фото-шоки»: фотографии парижских коммунаров впоследствии были использованы полицией для их розыска и казни (Барт, 1989).
Автобиографию пишут Другие, это решающее обстоятельство, которое однозначно подтверждает субъектность. Не каждый человек имеет биографа, но те, кто удостаивается такого выбора, оказывается среди «великих людей». В советское время издавалась серия «Жизнь замечательных людей», в которой были собраны биографии ученых, философов, художников, писателей и др.
Важно то, что сам биографируемый может считать свою жизнь обычной, вполне обыкновенной для своего времени, сословия и прочего, тогда как потомки, оценивая масштаб личности и эффективность культурного вклада, запускают механизмы биографирования. Например, биографию пишут после смерти политического деятеля, следовательно, биографии многих начинаются с точки зрения конца жизни, то есть рекурсивным ходом конституируется субъектность. Другой описывает вместо Я его жизнь. Сам биографируемый, возможно, пребывает в границах той же «голой жизни», тягучей и однообразной, что и все обычные люди, биограф же придает ей иную размерность и масштаб.
Автобиографирование производится в рамках деконструкции с точки зрения субъекта: он сам придает значение каким-то событиям, что-то пропускает как незначительный факт, что-то утаивает или вытесняет. В этом смысле любая автобиография является результатом фрагментирования: выбор событий производит сам субъект. Биографию же пишут Другие, зачастую они разоблачают тайну утаенного, вытесненного, непристойного, смешного, мелкого. В любом случае событие жизни как таковой и рассказ никогда не совпадают, в этом заключены риски и интрига автобиографии. Важно, что пишет Августин Блаженный о себе в «Исповеди»1, но значимым оказывается то, что написали о нем его потомки в философской энциклопедии. Другой как картограф чей-то жизни членит историю биографируемого в согласии со своей точкой зрения, выборами своего времени, запросами идеологии и власти. Биограф может понять и оценить биогра-фируемого лучше, чем он сам, потому что ему дана дистанция отстояния во времени: лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Большинство людей лишены биографии, на их долю остается только мемо-субъектность в виде памяти родных, друзей, близких, а также недоброжелателей, завистников, врагов, лишь немногим достается вечность. Биографии могут быть экзистенциальными, психоаналитическими, педагогическими и др., они представляют замысловатую конфигурацию биоса, то есть жизни как таковой, самопрезентации и биографии. Такие формы философствования как экзистенциализм, аналитическая философия, герменевтика, психоанализ стали тем методом, который позволяет биографирующему переместиться в жизненный мир биографируемого, сохраняя его тайну и самомобытность. Примером может служить психобиография С. Эйзенштейна, выполненная российским философом В.А. Подорогой2.
Смирение перед гением и талантом не является достоинством сегодняшних интернет-от-кликов об известных людях: пишущие в Сети зачастую низводят великого человека до уровня обыденности, снижают значение смысла жизни биографируемого, обесценивают сам жанр биографии. Так, в Сети размещен подробный календарный и поименный список всех дуэлей А. Пушкина. Вопрос: много ли добавляет к гениальности поэта как создателя русского литературного языка знание об условиях защиты им личного достоинства дворянина в первой трети ХIХ в.? Точно ли весь биос и zoe следует «протаскивать» в биографию или о чем-то следует умолчать? В начале христианизации Европы первые комментаторы деяний Иисуса обсуждали тему физиологических подробностей его жизни, пользуясь слухами, сплетнями и проч. Церковные иерархи ввели цензуру на обсуждение подобного рода тем. Смысл биографии заключается в том, что она представляет нам великого человека как зеркало, которое позволяет перенаправить взгляды других людей с «голой жизни», с биоса, на возможность человека создавать и удерживать высоту духа. В биографии важна человечность человека, а не животного.
«Собачье сердце» – это повесть о хорошей собаке и плохом человеке3. Собака открыта миру в части своих растормаживателей, органов, с помощью которых она крепко связана с миром, тем самым вписана в цепь поистине космических взаимодействий тепла и холода, удовольствия и боли, сытости и голода и пр. Она погружена в природу своих растормаживателей, но не относится ни к какому из них. Став человеком, собака приобретает отношение к способности своих органов доставлять удовольствие, создавать образы – приобщается к табаку и алкоголю, имеет влечение к противоположному полу. Человек всегда хорош как животное, потому что он «не относится», не оценивает, не выбирает, а претерпевает свою включенность в мир как судьбу, как данность. Человек как субъект относится к миру, оценивает, выбирает свободу, любит или ненавидит, имеет нечистую совесть, мучается виной. Именно поэтому недостаточно определять человека как биос, как способность просто жить, смотреть, иметь влечения, необходимо жизнеописание, превращение себя в самоописание, то есть в автобиографию.
Биография как истина является высокой привилегией, которая выпадает на долю великих людей, каждый из них находит своего биографа. Обычные люди также не хотят пребывать в бес-субъектности, поэтому автобиография – это исключительно человеческая неотменимость.
В сфере повседневности распространены дериваты автобиографии в виде вымысла, постправды, симулякров, фото-селфи, смс-нарративов и проч. Автобиографии не существуют в размерности «истина – ложь», обе составляющие являются стратегиями субъектности. Автобиогра-фирование тренирует мускулы самоидентификации: выборы необходимо делать самому, пока этого не сделал кто-то Другой. Вызовы современности – случаи войны, эмиграции, перемена языка Отечества и т. п. – подвергают риску выживание самого биоса, защитой и сохранением которого могут быть только бесконечные, но не безнадежные попытки становления субъекта.
В конце этой небольшой работы можно предложить некоторые выводы.
Функциями автобиографии являются: воспроизведение жизни, восполнение памятью, расчленение и вытеснение переживаний и фактов, возвращение вытесненного или исключенного, понимание, и дальше – все заново. Автобиография пишется не один раз, кроме того, биографию пишут Другие и т. п. Это герменевтический круг понимания, предложенный М. Хайдеггером и Г. Гадамером.
Поясним на примерах. В начале статьи мы поставили простой вопрос, что такое жизнь? Просто жизнь, «голая жизнь» – по Д. Агамбену (2011), повседневность – по М. Хайдеггеру (2011) и др. Возьмем для прояснения «Тайные дневники» Л. Витгенштейна1. Потребуется некоторое цитирование, чтобы показать, как просто жизнь становится жизнью субъекта с понятиями о свободе Духа, ответственности воина, долге философа перед своим дарованием. «Обмундировали как рекрута… Когда я сегодня проснулся, все было как в том сне, где человек совершенно бессмысленным образом неожиданно вновь оказался в школе». Бодрствование Л. Витгенштейн сравнивает со сном. Сон как бессмысленность: «Экипаж – сброд! Воодушевления – нет, невероятная грубость, глупость и злость! Все-таки неверно, что общее большое дело должно облагораживать людей». И так на многих страницах – холод, сырость, голод, тупость военных приказов. Тягостное чтение, а где же гениальный философ Людвиг Витгенштайн, основатель целого философского направления в ХХ в. – аналитической философии? А его место вот где: «Но сегодня снова работал и не позволю себе опускать руки. Не терять самого себя». В чем заключается его работа? Он пишет «Логико-философский трактат»2. Повседневная жизнь с ее текучестью, повторением одного и того же, скукой, нелепостями жизни как таковой заполняет страницы дневника. Налицо депрессивность выводов: «Навсегда покончено с моей работой!! Черт его знает! Неужели мне никогда ничего не придет на ум? Я целиком и полностью “далек” от всех понятий моей работы». Л. Витгенштейн сознает себя человеком наподобие амебы, подверженным воздействию весьма разных житейских обстоятельств – «ужасная жара», «засыпаю мокрым», «ужасный мороз». Как сохранить себя субъектом свободы? Субъект субъектности – это НЕ всеоткрытость (Хайдеггер, 2011), напротив, это означает сосредоточение, замкнутость в себе, одиночество, память о своем предназначении.
Неожиданно возникает идея молитвы и книги «Евангелие» Л. Толстого3. Против чего направлено просветление молитвы? Жить на ветрах повседневности, как марионетка, – значит, уподобляться животному. Он прямо опознает в себе зверя, который боится, голодает, мерзнет. Так как же существует Л. Витгенштейн автобиографии? Через исключение биоса, вытеснение животного в себе. «Не предавать себя, собраться». На многих страницах мы видим тяжелую борьбу духа с биосом. Исключить, вытеснить животное, дать место духу, ибо он бессмертен. Одновременно тягучая власть повседневности не отпускает. В ней теряется субъект, обыденность не знает времени, безразлична к прошлому, не задумывается о будущем. В конце дневника записи становятся короче, остаются только даты как уступка времени. Мысли о самоубийстве – дух философа готов сдаться. Но надеждой звучит фраза: «Только когда не зависишь от внешнего мира, можно сохранить присутствие духа». Просто жизнь следует вытеснить, она есть, но надо сделать так, как будто бы ее нет. Существование «как если бы» предполагает, что неблагоразумной жизни вовсе нет. «Голая жизнь» не субстанциональна, она находится по ту сторону субъекта, в речи – это болтовня и др.
Вторая автобиография, которую мы взяли для примера – это книга Льва Троцкого «Моя жизнь»1. По прошествии стольких лет после известных исторических событий мы задаем вопрос о том, каким способом существует автобиография Льва Троцкого. В записях о своей жизни этот политический деятель использует жанр риторики: он полемизирует, аргументирует, оправдывается, вспоминает соратников, огорчается и негодует и т. п. Но не в этом состоит его автобиографичность: в книге он часто ссылается на записки из дневников, которые сам вел. Снова личные дневники, но используются они иначе. Л. Витгенштейн – психоаналитический субъект, глубокий невротик и мизантроп, поэтому его отношение к переживаниям – вытеснение, возвращение вытесненного, сублимация. У политика функция дневников иная – подтверждение наличного, удостоверение того, как было на самом деле. Он не дает себя захватить потоку переживаний, исключает эмоции, чувства в пользу фактов. Много страниц книги Л. Троцкого посвящено дискуссиям вокруг Брестского мира, который едва не расколол партию, а его инициатора сделал предателем. Однако ничего личного: автор опирается на факты, воспроизводит диалоги, записки В.И. Ленина, то есть создает эмпирическую или позитивную историю. Можно допустить, что его автобиография опирается не на переживания, а на фактичность событий, как он это понимает. В случае Л. Витгенштейна мы имеем дело с автобиографией переживания, узнаем об устроенности души философа, пониманием его духовную жизнь. Автобиография Л. Троцкого дает представление о самой реальности, по крайней мере, в этом состоит замысел автора. Один – философ – переживает жизнь, другой – политик – объясняет, размышляет, теоретизирует не за пределами текста, а внутри него. Рационализация также работает по схеме вытеснения жизни, но с иным эффектом.
При этом оба пользуются языком, а именно письмом, что доказывает, что структуры Другого (язык – это Другой) встроены в схемы субъекта.
Краткие выводы наших размышлений сводятся к следующему.
-
1. Автобиография позволяет ускорить онтологические структуры движения к субъектности, то есть собрать сознание и тем самым преодолеть амбивалентность просто жизни.
-
2. Автобиографирование может оформлять субъектность в разных модусах: событие-рассказ (моя жизнь с датами), событие-письмо (дневники), событие-фото и др. Такими способами субъект осознает себя во времени.
-
3. Приведение к присутствию, разворачивание самости производится в формах наглядности (семейное фото, селфи-фото и т.п.), фотография приближает событие и удаляет его, то есть опространствливает время.
-
4. Автобиография как единый хронотоп связывает пространство и время субъектности, что позволяет эмпирический хаос жизни преобразовать в единый пространственно-временной порядок.
-
5. Автобиография позволяет ускорить движение онтической жизни как таковой, придать ей осмысленность, единство и целостность.
Список литературы Функция автобиографии в становлении субъектности
- Агамбен Д. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М., 2011. 256 с.
- Агамбен Дж. Открытое: человек и животное. М., 2012. 112 с.
- Аристотель. Риторика. Поэтика. М., 2018. 352 с.
- Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. М., 2013. 192 с.
- Барт Р. Фото-шоки // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 61-64.
- Башляр Г. Психоанализ огня. М., 1993. 176 с.
- Бодрийяр Ж. Симулякры и Симуляции. Соблазн. М., 2024. 376 с.
- Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. 704 с.
- Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000. 511 с.
- Доллар М. Голос и ничего больше. М., 2018. 384 с.
- Кант И. Критика чистого разума. М., 2024. 160 с.
- Лихачев Д.С. Черты первобытного примитивизма воровской речи // Язык и мышление. М. ; Л
- Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. 605 с.
- Подорога В. Время после. Освенцим и ГУЛАГ: мыслить абсолютное зло. М., 2017. 171 с.
- Фуко М. Воля к истине. По ту сторону закона, власти и сексуального // Работы разных лет. М
- Хайдеггер М. Бытие и время. М., 2011. 460 с.