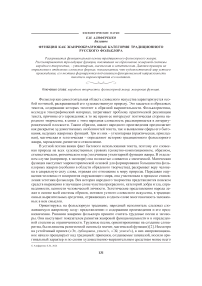Функция как жанрообразующая категория традиционного русского фольклора
Автор: Алиференко Е.И.
Журнал: Известия Волгоградского государственного педагогического университета @izvestia-vspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (186), 2024 года.
Бесплатный доступ
Раскрывается функциональная основа традиционного фольклорного жанра. Рассматриваются три ведущих функции, повлиявших на образование жанровой системы народного творчества, - утилитарная, магическая и эстетическая. Даются примеры их отражения в отдельных словесных формах; показывается, что художественный мир устного произведения, его поэтика формируются под влиянием функциональной направленности текста и мировосприятия его носителя.
Народное творчество, фольклорный жанр, жанровая функция
Короткий адрес: https://sciup.org/148328677
IDR: 148328677
Текст научной статьи Функция как жанрообразующая категория традиционного русского фольклора
Фольклор как самостоятельная область словесного искусства характеризуется особой поэтикой, раскрывающей его художественную природу. Это касается и обрядовых текстов, содержание которых тяготеет к образной выразительности. Фольклористика, исследуя этнографический материал, затрагивает проблему практической реализации текста, причины его зарождения; в то же время ее интересует поэтическая сторона народного творчества, в связи с этим народная словесность рассматривается в литературоведческой плоскости. Таким образом, анализ народного произведения предполагает как раскрытие художественных особенностей текста, так и выявление сферы его бытования, ведущих жанровых функций. Три из них – утилитарная (практическая, прикладная), магическая и эстетическая – определяют историю традиционного фольклорного жанра, зарождение, развитие и становление.
В устной поэзии важен факт бытового использования текста, поэтому его словесная природа на всех художественных уровнях (сюжетно-композиционном, образном, стилистическом, ритмическом и пр.) подчинена утилитарной функции жанра. В отдельном случае (например, в заговоре) она полностью сливается с магической. Магическая функция выступает мировоззренческой основой для формирования большинства фольклорных жанров (особенно в области обрядового творчества), раскрывает веру человека в сакральную силу слова, отражая его отношение к миру природы. Передавая ощущения человека от восприятия окружающего мира, она участвовала в процессе становления эстетики фольклора. Вся история народного творчества представляется поиском средств выражения в звучащем слове чувства прекрасного, категорий добра и зла, справедливости, ценности человеческой личности. Эстетические представления народа лежат в основе всей системы образов, мотивов устного словесного искусства, в традиционных выразительных средствах, отражающих в одном слове многозначность заложенных в нем смыслов.
Ориентируясь на фольклорную традицию, народный исполнитель следовал сложившемуся жанровому коду: представлению о содержании произведения и его предназначении. Ранними жанрами фольклора принято считать трудовые песни и заговоры. Они выступают показателем развития жанровой функциональности и в определенной степени ее ограниченности. Трудовые песни, ориентированные на создание слова-ритма, были лишены религиозной основы (а значит, магической функции) [2]. Несмотря на устойчивый припев (« Эх, дубинушка, ухнем! », « Эй, ухнем! »), в них импровизационное начало превалирует над традицией: припевки, создаваемые запевалой, носили оригинальный характер и по своим художественно-выразительным средствам менее всего
были связаны с народной песенной поэтикой. Такого рода песни имели мажорную тональность и в большей степени восходили к балагурной традиции, напоминая по форме раешный стих: « Утонула крыса в крынке, – приходил поп на поминки ». Зафиксированные собирателями тексты песен указывают на стремление исполнителя внести в процесс работы смеховую стихию, а вместе с ней – психологическую разгрузку.
Дошедшие до нас «дубинушки» выступают знаком раннего творческого акта, в котором Е. Гиппиус попытался «разгадать» историю жанра и его художественную природу [ 3 ]. Желание и умение человека отразить в слове ритм были первыми творческими шагами реализации своих ощущений от восприятия действительности, слово постепенно обретало эстетическую направленность.
Исследования прошлых лет раскрывают истоки образности устной словесности. Согласимся, что восприятие мира и способы его отражения – значительные шаги в становлении художественности народного творчества. Поэтическая сторона народных сочинений развивалась под влиянием конкретно-чувственных, а также мифологических представлений об окружающем мире: анимистических взглядов, тотемизма, веры в существование сверхъестественных сил и пр. Дошедший до нас язык фольклора свидетельствует о желании древнего человека показать разнообразие своих ощущений – от страха перед природой до просьбы к ней о помощи. Данный факт нашел отражение в магической основе заклинаний и обрядовой поэзии в целом.
С одной стороны, магическая функция присутствует как элемент мифологического сознания практически во всех жанрах народной словесности: сакральный подтекст находим в колядках, весенних закличках, причитаниях, свадебных песнях и пр. С другой стороны, мифологическое сознание дает толчок для развития художественного взгляда на мир, зарождение эстетического чувства, ярким примером этому выступает заговор. Магическая функция данного жанра определила образную систему текста, его структуру, особенности синтаксиса. Присутствующие в текстах языческие и христианские образы выступают знаками веры в сакральную силу природной стихии и христианского божества. Обращение к ним является сюжетным стержнем заклинательного текста и раскрывается в характерных для жанра композиционных приемах. Рассматривая структуру заговора, В.П. Аникин выделил в нем шесть возможных элементов – молитвенное вступление (введение), зачин, эпическая часть, изложение требования, закрепка, за-аминивание [2, с. 96]. Каждый элемент композиции нацелен на достижение желаемого результата. Используемые при этом синтаксические конструкции несут волевой посыл, что отражено в императивных формах глагола. Образная сторона заклинания усилена сравнениями, аналогиями, символическим или формальным параллелизмом, тавтологией. Например:
В печи огонь горит и пышет, и тлит дрова,
Так бы тлело, горело
Сердце раба Божьего (имя) по рабе Божьей (имя).
Во всяк день, во всяк час, всегда! Аминь [8, с. 39] .
В данном любовном заговоре синонимические повторы, прием аналогии, восклицательная конструкция рисуют энергию любовного желания. Образ огня в печи, процесса горения способствует передаче чувства любовного томления, физического жара. Усилению слова и его эстетизации служит ритм. Словесная формула «раб(а) Божий» несет значение слабости человеческих возможностей, подчинения высшей силе. В закрепке использован прием восходящей конструкции, подчеркивающий силу и непреложность слова.
Используемые в заговорном жанре композиционные приемы, словесные формулы, образы-топосы (Алатырь камень, море Океян) поэтизируют просьбу, что указывает на художественную природу заклинательного текста. Сам момент «творения» просьбы выступает актом искусства со свойственной ему условностью и образностью. Используемые при этом средства художественной выразительности являются традиционным знаком фольклорной поэтики. Вера в живую силу слова наделяла текст заговора сакраль-ностью и, следовательно, магической функцией, нашедшей отражение также в фольклорной символике.
Двойственная природа символа раскрывается в словесной материализации образа и в скрытом его значении. Желание «спрятать» мысль за условный образ определяется изначальным страхом человека перед невидимыми природными силами, способными причинить ему зло. Отсюда тайный язык, нашедший отражение в загадках, в речи участников обрядов, в промыслах, семейном быту. На более позднем этапе истории фольклора символика, как и другие средства художественной выразительности, например, метафора, утратила свои первоначальные магические смыслы и сохранилась как традиционный элемент фольклорной поэтики, усиливающий образную сторону произведения и выполняющий эстетическую функцию.
Символикой наполнена семейная обрядность. Желание завуалировать в слове происходящее способствовало образованию постоянных символических образов свадебного обряда. Оторванный от обрядового действия текст часто малопонятен, и только знакомство со свадебной традицией, понимание постоянных словесных конструкций, включая символы, дает ему расшифровку. Приведем пример такого текста (орфография и пунктуация даны по первоисточнику):
Сосинку, зиляну сосну съ кариня валятъ,
Зиляну сосну съ кариня валятъ,
Душу Аннушку съ тиряма вядутъ,
СвеѢтъ Стяпанавну изъ высокава.
Папиреть нясутъ привиликай даръ (2);
«Хать и даръ я шлю, – я сама иду (2),
Хать и пойду, – я и покланюсь (2);
Хать и покланюсь, – сваму миламу» [5, № 1, с. 1].
Перед нами ритуальная песня, ее утилитарная функция – дать комментарий ритуалу сговора, показать торжественность происходящего момента. Эпическая сторона песни рисует позитивную картину церемониала, лирическая же стихия направлена на передачу чувства обреченности, испытываемого невестой: символическая параллель – сравнение девушки с поваленным деревом – задает трагическую тональность происходящему. Присутствующий образ способствует раскрытию мотива смерти – значимой темы свадебного фольклора, поэтому используемый в песне символ и его значение являются знаком принадлежности текста к свадебной обрядности, где замужество рассматривалось как жизненная трагедия, изменение социальной роли невесты – как смерть. Таким образом, песня вписана в обрядовую систему и развивает главный ее лейтмотив. Детали проясняются при знакомстве с ходом обряда: перед нами текст песни, записанный в Саратовском крае в первой половине XIX века. Он комментирует момент первого выхода невесты из чулана к жениху во время сговора и вручения ему «дара» (подарка). Невеста, которую торжественно сопровождают подруги и сваха (последняя несла на деревянном подносе подарок – шейный платок), должна подойти к столу, за которым сидит жених и его родственники, поклониться будущему супругу, налить в рюмку «вина» и поднести ему. Подержав рюмку в руках, жених ставил ее на место, брал из рук свахи платок, утирал им губы, а затем троекратно целовал невесту [7].
Свадебная символика, иносказания формировались как оберег от злых сил, да и само поведение невесты, скрывающей в причитаниях свое истинное чувство, – это также желание уберечь себя от сглаза и потустороннего вмешательства в свою судьбу.
Свадебная игра обретала официальный статус, так как проходила при большом скоплении народа. Гости свадьбы были своего рода свидетелями происходящего, узаконивали процесс соединения двух родов, – в этом заключалась утилитарная (юридическая) функция обряда. А вот содержание обряда в целом формировалось под влиянием магических представлений. Ю.М. Соколов дал детальную характеристику двум видам магии (профилактической и продуцирующей), нашедшей отражение в свадебных действиях [6, с. 158–159].
Магическая функция определила характер словесного сопровождения свадьбы – причитаний и песен, – дала толчок для развития его символической основы. Выделенные исследователями свадебные песни (ритуальные, лирические, заклинательные, величальные, корильные) сформировались под влиянием всех указанных выше функций и к началу XIX века представляли собой самостоятельный жанр свадебного фольклора, с разработанной системой тем, образов, мотивов [4]. Так, лирические песни развивали тему ближайшего замужества, перехода девушки в чужую семью, испытываемого в связи с этим чувства страха, поэтому сюжет, как правило, строился на оппозиции «свой-чужой». Данный концепт определил художественную сторону свадебных лирических песен и выбор поэтических средств. Постоянным приемом для создания образа «своего» и «чужого» пространства в лирических песнях является противопоставление, а также использование постоянных словесных формул, негативно характеризующих членов новой для девушки семьи:
Калина со малиною
Безо время расцвела.
Меня-то мать-кормилица
Разнесчастную родила,
Не собравшись с умом-разумом
В чужие люди отдала.
Чужая-то сторонушка
Без ветру сушит.
Чужой свекор-батюшка
Без вины журит-бранит.
Чужая свекровь-матушка понапраслину [1, № 8, с. 24].
Поэтическая сторона представленной песни раскрывает отношение невесты к свадьбе, к будущей супружеской жизни. Семья мужа для нее – образ антимира, несущего зло. Эстетическая функция в данном случае является главной, она же развивает художественную основу свадебной лирики в целом. Так величальные песни свадебного фольклора традиционно строились на идеализации. Данный прием определил выбор высокой лексики и художественно-выразительных средств, рисующих положительный образ участников свадебного обряда. Для каждого из них в песнях присутствовал традиционный набор характеристик. Например, величая жениха, пели:
Черна ягодка смородина
Прилегала к круту бережку,
Прилегали кудри русыя
К лицу белому, румяному.
Русы кудри по плечам лежат,
По плечам Александра Яковлевича;
Брови черны, что у соболя,
Очи ясны, что у сокола … [7, с. 346] .
Свадебная игра включала ситуацию, когда адресат песни не мог отблагодарить поющих за величание, в этом случае звучали тексты противоположного содержания – ко-рильные. Сниженная лексика, рисующая негативные образы, определила художествен- ный мир данного рода произведений. Участники обряда пытались избегать таких моментов, что объясняется не только желанием не дать повод для насмешек окружающих, но и стремлением обезопасить себя от негативной силы слова. Со временем магическая функция обряда стала ослабевать, уступая место игровой (эстетической).
Расшатывание религиозной основы обрядов (как семейных, так и календарных), современные реалии жизни привели к их разрушению. Записи второй половины XX века фиксируют остаточные формы региональных народных традиций, поэтому есть основание считать, что эстетическая функция фольклора, его художественная основа способствовали консервации отдельных словесных форм народной культуры. Для исполнителя привлекательной оставалась поэтическая сторона произведения, его развлекательная сущность. Показателен в этом отношении детский фольклор: не столько поэзия материнства – колыбельные песни, прибаутки и потешки, – сколько произведения, создаваемые детьми. Надо признать его современное живое бытование. Игровое, образное мышление детей побуждает к творческому акту, способствуя сохранности, например, считалок, дразнилок. Новации наблюдаются в содержании жанра, в то время как форма и сфера бытования (детская среда) остаются неизменными.
История народной словесности дает примеры возможного изменения утилитарной функции жанра. Так загадки из области обряда, тайного языка взрослых переместились в детский фольклор, получили новую для жанра направленность – игровую, развлекательную. Расширилась и область их применения: загадки, развивая образное мышление ребенка, были и остаются своеобразным средством народной педагогики. Содержание загадок строилось на поэтизации предметного мира; установка на поиск образа говорит о том, что в природе данного жанра заложена технология творчества, в которую погружался ребенок.
Данный процесс характерен для народной лирики, природа песенного жанра указывает на его художественные свойства, где утилитарная функция сводилась к эстетизации переживаемого чувства. Классификация народных необрядовых песен (любовные, семейные, ямщицкие, чумацкие, разбойничьи, тюремные и пр.) дает многообразие тем и образов-переживаний. Песенный жанр развивал субъективную основу фольклора: передача личного чувства формировала новую родовую стихию устной словесности, нацеленную на раскрытие внутреннего мира исполнителя.
Стремление к поэтизации окружающего мира наблюдается во всех жанрах народного творчества. Устная словесность постепенно обретала новые для себя функции, характерные для художественной литературы (воспитательная, гедонистическая, развивающая, познавательная, трансляционная и пр.): текст начинал служить развлечению и авторскому (исполнительскому) самовыражению. В первую очередь это коснулось вне-обрядовых жанров (былин, сказок, баллад и пр.), нацеленных на передачу в образной форме конкретной идеи. Процесс рассказа и его продукт были подчинены художественным задачам, следовательно, утилитарная функция сводилась к творческому акту, демонстрировала новые возможности устного текста.
Народный рассказчик стремился доставить слушателю удовольствие, развлечь его; предлагаемая информация часто служила воспитательным целям. Каждая функция имеет конкретную жанровую реализацию: например, воспитывать можно патриотизм (былина), чувство справедливости и способность противостояния жизненным неудачам (сказка), сострадание к обиженному (баллада), уважительное отношение к истории своего края (предание) и пр.
Жанры народной словесности фиксирует свою область знаний о мире и способы ее отражения. Так, историзм выступает главным свойством исторических песен, вносит в условный сюжет реалистическую окраску, главные герои данных произведений – известные для русской культуры исторические деятели. Предмет изображения друго- го жанра – русской народной баллады – частная жизнь человека. В отличие от лирической песни, внимание в ней фокусируется на трагическом случае, преступлении. Рассказанная история предостерегает слушателя от возможных ошибок. В балладах «нового типа» может содержаться открытое назидание:
Вот вам, девушки, наука,
Как в лесок ходить,
А еще наука
Городских любить [8, с. 97].
В целом народное творчество дает пример скрытого дидактизма, идейнохудожественного подтекста, к чему постепенно будет идти художественная литература. Только в пословичном жанре поучительный элемент выступает главным свойством, определяющим его функциональную направленность и поэтику в целом.
В функциональном отношении универсальной словесной формой представляется сказка. Данный жанр, выступая предтечей малых форм литературной прозы, воплощает самые разные функции художественного произведения. Линейная композиция сказки дает пример постоянных элементов сюжета, раскрывающих идейно-художественную основу произведения. Воспитательный посыл сказки ненавязчив, представлен занимательной ситуацией, вследствие чего данная фольклорная форма по-прежнему привлекательна для слушателя. Развлекательная направленность жанра дала толчок для творческого поиска, воплотившегося в традиционной образной системе, в языке, создающем особую сказочную обрядность.
Дошедшие до нас устные народные произведения утратили свои первичные утилитарные функции и воспринимаются сегодня как явление словесного искусства, поэтому эстетическая функция фольклора выступает художественной категорией и средством консервации жанра, его культурной востребованности.
Список литературы Функция как жанрообразующая категория традиционного русского фольклора
- Алиференко Е.И. Словесное сопровождение Саратовского свадебного обряда: учебное пособие к практическому занятию по устному народному творчеству "Семейная обрядовая поэзия. Свадьба". Балашов, 2006.
- Аникин В.П. Русский фольклор: учебное пособие для филологических специальностей вузов. М., 1987.
- Гиппиус Е.В. "Эй, ухнем". "Дубинушка". История песен. М., 1962.
- Круглов Ю.Г. Русские свадебные песни: учебное пособие для педагогических институтов по специальности № 2101 "Русский язык и литература". М., 1978.
- Соколов М.Е. Великорусские свадебные песни и причитания, записанные в Саратовской губернии. Саратов, 1898.
- Соколов Ю.М. Русский фольклор. М., 1941.
- Терещенко А.В. Гл. XVI. Свадьба в Саратовской губернии // Быт русского народа. СПб., 1848. Ч. 2. С. 288-372.
- Фольклор Прихоперья. Весы: Альманах гуманитарных кафедр Балашовского института (филиала) Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. № 40. / сост. Е.И. Алиференко. Балашов, 2010.