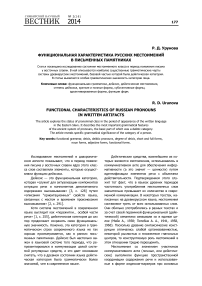Функциональная характеристика русских местоимений в письменных памятниках
Автор: Урунова Р.Д.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 2 (16), 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию состояния местоименного класса в период появления письма у восточных славян. В ней описываются наиболее существенные грамматические черты системы древнерусских местоимений, базовой частью которой была дейктическая категория. В статье выявляется особая грамматическая значимость категории лица.
Функциональная грамматика, дейксис, дейктические местоимения, степень дейксиса, краткие и полные формы, субстантивные формы, адъективированные формы, функции форм
Короткий адрес: https://sciup.org/14113917
IDR: 14113917
Текст научной статьи Функциональная характеристика русских местоимений в письменных памятниках
Исследование местоимений в диахроническом аспекте показывает, что в период появления письма у восточных славян ядро этого класса слов составляли элементы, которые осуществляли функцию дейксиса.
Дейксис — это функциональная категория, которая «служит для актуализации компонентов ситуации речи и компонентов денотативного содержания высказывания» [3, с. 128] путем «описания “ориентационныхˮ свойств языка, связанных с местом и временем произнесения высказывания» [2, с. 291].
Хотя система местоимений в современном языке выглядит как «пережитки… особой части речи» [1, с. 255], дейктическая категория до сих пор продолжает сохранять свою функциональную значимость. Конечно, эта категория в грамматическом строе современного языка не так хорошо просматривается, как в ранних письменных памятниках. Дейксис был настолько важен в языковой системе того периода, что репрезентировался в коммуникации целой системой регулярных средств, и это дает основание считать, что в древнем состоянии языка дейкти-ческая категория была грамматически более значимой, чем в современном языке.
Дейктические средства, важнейшими из которых являются местоимения, использовались в коммуникативном акте для обеспечения информативности (а это значит — ценности) путем идентификации элементов речи с объектами действительности. Подтверждением этого служит тот факт, что в языках древних периодов частотность употребления местоименных слов значительно превышает их количество в современной коммуникации. В некоторых текстах, написанных на древнерусском языке, местоимения составляют треть от всех использованных слов. Они обильно употреблялись в разных текстах и за счет своей первичной функциональной (дейк-тической) семантики связывали их в единое целое (Мейе А., 1938; Потебня А. А., 1941, 1958, 1968). Поскольку древние синтаксические конструкции отличались слабой организованностью, некоторой рыхлостью и множеством глагольных центров, то конструктивную роль местоимений в этом отношении трудно переоценить.
Местоимения со значением участников коммуникативного акта (личные, или дейктиче-ские) выполняли функцию пространственной координации содержания речи и использованные в форме индексов-маркеров при основных для смысла словах репрезентировали структуру коммуникативного акта. Это вызвало необходимость постоянно выражать противопоставление непосредственных участников коммуникации и лиц (предметов), находящихся за ее пределами, разными комплексами грамматических значений в структуре каждого местоимения. Самым важным грамматическим компонентом дейктических местоимений было значение лица, которое в процессе коммуникации выполняло две функции одновременно: персональную — выражение роли в коммуникативном акте и собственно дейк-тическую — выражение пространственных координат для идентификации объектов речи по месту их расположения.
В масштабе грамматического строя языка местоименное лицо образует сложную категорию, совмещающую реляционные и референциальные грамматические признаки одновременно [3, с. 116], что свидетельствует о ее синкретичной природе. Это стало основанием того, что при исследовании местоимений особый интерес вызвали как раз те из них, которые маркировали категорию лица. Именно эти варианты, на наш взгляд, и составляли ядро дейктической местоименной системы в языке ранних периодов.
Поскольку ориентиром для идентификации объектов в процессе речи является говорящий, находящийся в эпицентре коммуникативного акта, то местоимение 1-го лица является центральным в местоименной дейктической системе. Все остальные местоимения идентифицируют объекты путем актуализации их пространственного расположения (или дистантности) относительно говорящего. Самой высокой степенью дейктического качества обладают местоимения 1-го и 2-го лица, которые и являются собственно личными, — они осуществляют дейксис I-й степени. Так называемые указательные местоимения 3-го лица осуществляют дейксис II-й степени, поскольку идентифицируют объекты действительности через актуализацию своего пространственного расположения относительно непосредственных участников коммуникации. По этой причине, на наш взгляд, более точным для них названием является «лично-указательные местоимения», которое и будет использовано далее. Дейксис III-й степени осуществляется адъективированными формами личных и лично-указательных местоимений, которые соотносят языковые элементы и объекты действительности путем указания на их принадлежность или отношение к участникам коммуникации. Эта особенность стала причиной того, что адъективированные формы дейктических местоимений в древнем языке имели особую значимость в синтаксических конструкциях — они использовались как грамматикализованное средство организации структуры предложений.
Местоименные маркеры коммуникативных ролей образовывали первичную систему местоимений. Компаративисты (Мейе А., Остгоф Г., Бругман К., Семереньи О. и др.) восстановили в этой системе следующие варианты:
-
— 1-е лицо единственного числа;
-
— 1-е лицо множественного числа;
-
— 2-е лицо единственного и множественного числа;
-
— возвратное местоимение-заместитель;
-
— 3-е лицо рядом с говорящим, различающееся по числам и родам;
-
— 3-е лицо рядом со слушающим, различающееся по числам и родам;
-
— 3-е лицо далеко от участников коммуникации, но в пределах видимости и, очевидно, близкое им по какому-либо признаку (например, в древности — сородичи);
-
— 3-е лицо далеко от участников коммуникации за пределами видимости и часто противостоящее им по какому-либо признаку;
-
— нейтральное местоимение-заместитель.
Изменение сознания, обусловленное перестройкой общественной стратификации, со временем вызвало развитие дополнительной семантики у местоимений, обозначающих «неуча-стников» коммуникации, т. е. лиц за пределами коммуникативного акта. Новая семантика развивается на базе родственных отношений и имеет заметный системный характер так же, как и первичная. На третьем этапе у местоимений развиваются несистемные значения, в которых зависимость от других элементов класса проявляется слабо и актуализируется в соотнесенности отдельных местоименных вариантов между собой.
Все первичные варианты местоименной системы и развившиеся впоследствии восстанавливаются в самых ранних памятниках восточнославянской письменности:
-
1. азъ , " зъ : говорящий ( И рече единъ от - рокъ . Азъ прейду : ПВЛ);
-
2. ты , вы : слушающий, слушающие ( Одинъ братъ , одинъ св ^ тъ св е тлый — ты, Игорю ! : СоПИ; А вы д ^ ти мои жывите заоди н... : Дух. гр. Дм. Ив. Донскова);
-
3. мыс совокупность лиц, связанных с говорящим каким-либо признаком ( мы, челов ^ ци , гр ^ шни суще и смертни : Поуч. Вл. Мономаха);
-
4. себе : маркер отношения участника коммуникации или какого-либо другого лица к самому себе ( Или пьхнеть моужь моужа • любо к соб к любо W себе любо по лицю оударит ь...: Русская правда);
-
5. сь :
-
1) первичная семантика: лицо или объект за пределами коммуникации, расположенный близко к говорящему ( И прииде на м к сто , ид к же лежаще кости его голы и лобъ голъ и сс к де с коня , и посмеяся рече : « отъ сего ли лба смьрть было взяти мн к ?» : СоПИ);
-
2) вторичная семантика: вместе с говорящим в каком-либо действии, чаще всего сородич говорящего ( Мьстисла в же поц # молит и с # кнземъ роусьскымъ • брати сво к и • рек # тако оуже мы бра т к симъ (русским) не поможемъ • тъ си (русские) имоуть придати с # к нимъ : Новгородская летопись);
-
3) семантика, развившаяся на третьем этапе: конкретный, определенный ( приходиша ко мн к болгаре рькуще прими законъ нашь • по сем же приходиша н к мци и ти хвал # х законъ свои • по сихъ придоша жидове : ПВЛ);
-
6. тъ :
-
1) первичная семантика: лицо или объект за пределами коммуникации, расположенный близко к слушающему ( а сами собравшее # $ ма ла и до велика • сто а хоуть • на ^ нои сторон к р к кы • сюоурли а • и ти изр # диша полковъ •$• игоревъ полкъ серед к • а по правоу брата его всеволожь • а по л к воу стославль сивц # его: Ипатьевская летопись);
-
2) вторичная семантика: расположенный в пространстве относительно какого-либо предварительно упомянутого в речи объекта ( И w туду иде г белугороду • и повел к и тъ зажеши : Суз-дальск. летопись по Лавр. списку);
-
3) семантика, развившаяся на третьем этапе: происходящий в момент времени относительно какого-либо другого момента времени ( Т ои же зиме приходиша • вс # чюдьска земл # къ пльскову : Новгородская летопись);
-
7. инъ :
-
1) первичная семантика: лицо за пределами коммуникации, находящееся с кем-то в отдалении от говорящего ( Да д к ти мои , или инъ кто , слышавъ сю грамот ицю , не посм к йтеся : Поучение Вл. Мономаха);
-
2) вторичная семантика: сородич, находящийся за пределами коммуникативного акта ( Давыдъ же приде по Дн к пру , придоша же ины помочи у Т реполя , а Ярославъ в Чернигов к, сово-купивъ вои свои , стояшеть : Киевская летопись);
-
3) семантика, развившаяся на третьем этапе: другой, еще дополнительный к кому- или чему-либо ( Т акожде и ина многа вид к нья провид к старець , и почи в старости добр к в монастыри семь... : ПВЛ; Пр к водъ же есть слово отъ иного на иню пр к водимо: Изборник Святослава);
-
8. онъ :
-
1) первичная семантика: лицо, находящееся очень далеко за пределами коммуникативного акта и видимости участников коммуникативного акта; чужой говорящему ( а си к ним идуть к вежам их • м ни же не пуст # чи в веж к ср к тоша ихъ : Суздальская летопись);
-
2) вторичная семантика: противостоящий говорящему, чужой, враг ( И ста Володимеръ на сей стороне , а печензи на оной , и не смяху си на ону страну , ни они на сю страну : ПВЛ);
-
3) семантика, развившаяся на третьем этапе: другой ( Вид к въ же се князь печен к жьский , възратися единъ къ воевод к Пр к тичю и рече : кто се приде ? и рече ему : людье оная страны: ПВЛ);
-
9. и , а, к : универсальное безотносительное указание на любое лицо, объект, реалию действительности в любых условиях ( И принесоша я (деревлян) на дворъ к Ольз к, и несъше , вринуша е (ихъ) въ яму и с лодьею: ПВЛ; и рече имъ • по-слушаите мене • не предайтес # за 3 дни : ПВЛ).
Функциональные варианты, зафиксированные в самых ранних восточнославянских текстах, имели несколько общих грамматических признаков, которые характеризовали местоимения как хорошо сложившийся грамматический класс.
I признак: Способность выражать значение лица по определенному участию в коммуникативном акте. 1-е лицо указывает на говорящего, а остальные лица определяются по отношению к нему или по степени близости / отдаленности от него. Таким образом, у всех местоимений семантику определяют два компонента: 1) участие в коммуникации и 2) степень отдаленности от эпицентра коммуникации, актуализированного говорящим. Непосредственные участники коммуникации конкретизируются в меру необходимости. Говорящий выражается местоимением только в единственном числе. Собеседники могут маркироваться вариантами в разных грамматических числах. У лиц, находящихся за пределами коммуникации, выражается не только степень отдаленности от говорящего и количество, но и уточняется род в единственном числе. В традиционной грамматике обычно наличие рода в структуре местоимений 3-го лица считается основанием отнести их к иному разряду (указательному). На наш взгляд, отсутствие у слов местоименного класса единой образцовой парадигмы позволяет объединить в одну функциональную систему не только варианты с разным количеством парадигматических форм, но и с разными наборами грамматических значений.
Джон Лайонз убедительно объясняет закономерность отличия грамматического качества местоимений 3-го лица от остальных: «“Третье" лицо следует отличать от “первогоˮ и “второгоˮ по ряду особенностей. В то время как говорящий и слушающий наличествуют в составе любой ситуации, другие упоминаемые лица и предметы не только могут отсутствовать в самой ситуации высказывания, но оставаться вообще неидентифицированными. Это означает, что категория третьего лица может соединяться с… другими категориями…» [2, с. 292]. У русских местоимений третье лицо соединяется со значением рода.
II признак: Наличие в парадигме местоимений кратких и полных форм. В данном случае под полными формами понимаются парадигматические местоименные формы, которые в языке являются нейтральными и принимаются за нормативные. Полные формы выделяются только по отношению к кратким парадигматическим формам. Очевидно, от частого употребления для актуализации пространственного значения формы наиболее регулярно используемых падежей в речи стали произноситься сокращенно, вместо меня — м#, тобя — т# и т. д. Таким образом, в языке появляются краткие формы дательного и винительного падежей у всех без исключения местоимений, которые обозначают лиц по участию в коммуникативном акте. Лично-указательные местоимения 3-го лица также имеют краткие формы, которые используются во всех случаях, когда это позволяет фонетический облик полной формы и гораздо шире, чем у местоимений 1-го и 2-го лица: 1. И "шас# грецы1 по се • и почаша греци мира просити (ПВЛ, Взятие Царьграда). 2. А добро сьтвqр# оукоупи ми жита (БГ из Витебска). 3. Заутра же, пятъку наставшу, во обиднее веремя усрйтоша полкы половйцький: бяхуть бо до нихъ доспйлй веж^ свой пустили за ся (Киевская летопись, О походе Игоря Святосл.). 4. А ныне м# въ томъ • #ла кън#гыни • а ныне с# дроужина • по м# пороучи-ла (БГ № 109) и др. Этот факт также дает основание отнести местоимения, обозначающие ли- ца за пределами коммуникативного акта, к одной с собственно личными местоимениями грамматической системе.
III признак: Наличие в парадигме местоимений субстантивных и адъективированных форм. Адъективированные формы собственно личных и лично-указательных местоимений использовались для выражения отношений между объектами речи через их соотнесенность с непосредственными участниками коммуникации. Субстантивные формы имеют все грамматические признаки имени существительного и выполняют в предложении характерные для него функции. Адъективированные формы имеют грамматические признаки имени прилагательного, в предложении выполняют характерную для него атрибутивную функцию, а в коммуникативном акте используются в качестве индексов при словах со значением объекта.
В терминах функциональной грамматики наличие субстантивных форм в системе местоимений интерпретируется как их основная потенциальная функция (дейксис), которая для них является первичной. Использование адъективированных форм, очевидно, обусловлено способностью местоименного класса реагировать на необходимость маркирования предикативных признаков объектов речи. Это стало причиной того, что в текстах они иногда имеют одноразовый характер и : 1. и постави крестъ , и помоливъся богу съл й зъ съ горы сея идеже по-слеже бысть киевъ (ПВЛ). 2. Рече же воевода ихъ , именемъ Пр й тичь : подьступимь заутра в лодъяхъ , и попадше княгиню и княжич h умчимъ на сю страну (ПВЛ). 3. Начяти же ся тъй п й сни по былинамь сег о времени , а не по замышлению БоянЮ (Слово о полку Игореве). 4. Богъ бо каз - нит ь рабы! своя напаст ьми различными , огнемь и водою , и ратью , и иными различными казньми (Суздальская летопись). 5. а нын й есмь суе й доль любовь ваша права # съ сномь моимь с витенемь • тако же д й ти была любовь ваша перва # с поло-чаны! съ д й тми моими • што вамъ было надоб ! • то было ваше • а нын й што д й темъ моимъ надоб й того имъ не бороните (Грамота полоцкого епископа Якова рижскому епископу и Риге, 1309).
Адъективированные формы актуализируют один из вариантов потенциальной дейктической функции, заложенный в качестве способности большей части местоименных слов, — индексировать объекты речи. В древних синтаксических конструкциях они осуществляли частную предикативность каждого отдельного объекта речи с действительностью, в отличие от современного языка, в котором предикативность осуществляется только в масштабе предложения. Адъективированные формы образовывались и использовались по мере необходимости в каждом случае отдельно. Уже в древнерусском языке существует набор адъективированных форм, которые узнаются носителями языка как отдельные, но в целом их употребление часто еще является несамостоятельным. Их связь с первичной субстантивной формой в некоторых текстах проявляется весьма существенно. Отдельные адъективированные формы обнаруживают заметную мотивированность субстантивными формами и в плане выражения: 1. А ты, буй Романе и М сти-славе! сулици свои повръгоша, а главы! своя под-клониша подъ тыи (ваши) мечи харалужныи (Слово о полку Игореве). 2. И ста Володимеръ на сей стороне, а печензи на оной, и не смяху си на ону страну, ни они на сю страну (ПВЛ: Лаврентьевская летопись).
Функция адъективированных форм по грамматической значимости отличается от функции субстантивных форм. Субстантивы осуществляют дейксис и сопутствующую ему предикативность, а адъективированные формы осуществляют предикативность посредством способности осуществлять дейксис.
Таким образом, класс местоимений русского языка к моменту появления письменности представлял собой хорошо организованную много- элементную систему, имеющую в грамматическом строе языка важные функции. Кроме устойчивых форм, которые маркировали дейкти-чески значимые элементы, в этой системе постоянно образовывались непостоянные функциональные формы, обслуживающие особые аспекты коммуникации. Краткие формы личных и лично-указательных местоимений по синтаксической функции являлись субстантивами и были эквивалентными во всех отношениях полным формам, поэтому в языке нового грамматического качества они перестали употребляться. Адъектированные же формы, обладая особой функциональной значимостью, приобрели статус самостоятельных местоимений и образовали в языке новый притяжательный разряд.
-
1. Виноградов В. В. Русский язык. М. : Высш. шк., 1972.
-
2. Лайонз Дж . Введение в теоретическую лингвистику. М. : Прогресс, 1978.
-
3. Лингвистический энциклопедический словарь. М. : Советская энцикл., 1990.
-
4. Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании. М., 1954.
-
5. Остгоф Г., Бругман К. Морфологические исследования в области индоевропейских языков. Лейпциг, 1878.
-
6. Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. 1—2. М., 1958.
-
7. Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.
Список литературы Функциональная характеристика русских местоимений в письменных памятниках
- Виноградов В. В. Русский язык. М.: Высш. шк., 1972.
- Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. М.: Прогресс, 1978.
- Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энцикл., 1990.
- Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании. М., 1954.
- Остгоф Г., Бругман К. Морфологические исследования в области индоевропейских языков. Лейпциг, 1878.
- Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. 1-2. М., 1958.
- Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.